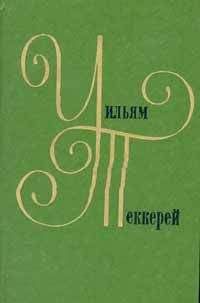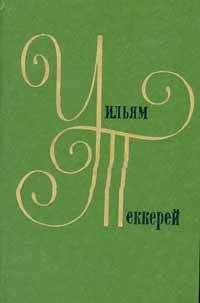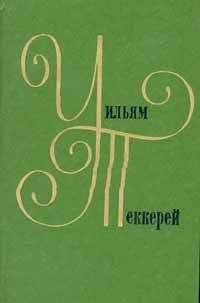Уильям Теккерей - Ньюкомы, жизнеописание одной весьма почтенной семьи, составленное Артуром Пенденнисом, эсквайром (книга 1)
— Не будь для меня законом не впутывать имя дамы в мужскую ссору, — с достоинством говорил Ньюком старому Плимутроку, — и не сбеги Белсайз отсюда как раз вовремя, я бы непременно проучил его. Но он вместе с другим авантюристом, относительно коего я не раз предупреждал родных, покинул Баден-Баден нынче днем. Я рад, что оба они уехали, особенно капитан Белсайз, — ибо нрава я, милорд, горячего и не уверен, что мог бы сдержаться.
Когда граф Плимутрок пересказал лорду Кью эту примечательную тираду Барнса Ньюкома, о благоразумии, выдержке и достоинстве которого старик был самого высокого мнения, его собеседник только мрачно кивнул и проговорил: "Да, Барнс решительный малый и бьет наповал". Он постарался сдержать смех, пока не распростился с сиятельным Плимутроком, зато потом, конечно, вволю нахохотался. Он сообщил эту историю Этель и похвалил Барнса за удивительное самообладание, — чего рядом с этим стоила шутка об огромной дубине! Барнс Ньюком тоже посмеялся: у него было большое чувство юмора, у этого Барнса.
— Пожалуй, вы могли бы одолеть Джека, когда он давеча возвращался от Плимутроков, — заметил Кью. — Бедняга был так потрясен и так ослабел, что даже Элфред мог бы свалить его с ног. Ну, а в другое время вам это было, бы трудновато, милейший Барнс.
Тут мистер В. Ньюком опять обрел свое достоинство и объявил, что шутки шутками, но пошутили и хватит. И можно не сомневаться, что уж это он сказал от души.
Прощальное свидание любящих происходило весьма чинно и благородно. При сем, разумеется, присутствовали родители девицы. Джек, явившись на зов Плимутроков, предстал перед ними и их дочкой с видом побитого пса.
— Мистер Белсайз, — произнес милорд (бедняга Джек потом в душевной тоске поведал эту историю Клайву Ньюкому), — я должен извиниться перед вами за те слова, какие вырвались у меня вчера в пылу гнева. Я сожалею о них, как, несомненно, и вы о том, что дали для них повод.
Мистер Белсайз, не отрывая глаз от ковра, сказал, что крайне сожалеет.
Тут вступила леди Плимутрок, сказав, что раз уж капитан Белсайз в Баден-Бадене, он, наверно, хотел бы слышать от самой леди Клары, что того, с кем она помолвлена, она выбрала по доброй воле, хотя, разумеется, с ведома и по совету родителей. "Не так ли, моя милая?"
— Да, маменька, — ответила леди Клара и низко присела.
— А теперь нам остается с вами проститься, Чарльз Белсайз, — объявил милорд с некоторым волнением. — Как родня и старый друг вашего батюшки, я желаю вам добра. Надеюсь, что последующие годы будут у вас счастливее минувших. Я хочу, чтобы мы расстались друзьями. Прощайте, Чарльз. Подай руку капитану Белсайзу, Клдра. И вы, леди Плимутрок, будьте добры пожать Чарльзу руку. Вы ведь знали его ребенком и… и… нам очень жаль, что приходится так расставаться.
Таким манером был наконец выдернут больной зуб мистера Джека Белсайза, и на этом мы пожелаем счастливого пути ему и его товарищу по несчастью.
Востроглазый маленький доктор фон Финк, пользующий чуть ли не все лучшее общество Баден-Бадена, целый день колесил по городу с достоверным рассказом относительно случая на променаде, вокруг которого злопыхатели, завистники и непосвященные нагородили уже множество несуразных подробностей. Что такое, — леди Клара была невестой капитана Белсайза? Вздор! Кто же не знает состояния дел капитана: ему думать о женитьбе все равно, что мечтать взлететь в воздух! Кто сказал, что при виде него леди Клара лишилась чувств? Она упала в обморок еще до того, как он подошел; она подвержена обморокам, и только на прошлой неделе, как ему точно известно, они случались с ней трижды. У лорда Плимутрока в правой руке нервный тик, и он всегда потрясает палкой. И сказал он вовсе не "убью", а "Хью" — так зовут капитана Белсайза. Как, разве в Книге пэров он назван не Хью? Говорите, Чарльзом? Вечно они напутают в этой Книге пэров!
Конечно, эти беспристрастные объяснения возымели свое действие. Злые языки, разумеется, мигом смолкли. Публика осталась вполне удовлетворена, — такова уж публика. На следующий вечер в собрании был бал; леди Клара приехала и танцевала с лордом Кью и мистером Барнсом Ньюкомом. В обществе царило благодушие и доброжелательство, и об обмороке вспоминали не больше, чем помышляли о поджоге курзала. Только дамы де Крюшон и фон Шлапгенбад и другие ужасные особы, с которыми разговаривают одни мужчины, а женщины лишь обмениваются поклонами, продолжали твердить, что англичане — страшные ханжи, и на все заверения, объяснения и клятвы доктора Финка отвечали: "Taisez-vos, Docter, vos n'etes q'ne vieille bete" [158], - и дерзко поводили плечами.
Леди Кью тоже присутствовала на балу, любезная, как никогда. Мисс Этель прошлась несколько раз в вальсе с лордом Кью, однако наша нимфа была в тот день особенно непримирима. Боб Джонс, который безмерно восхищался ею, попросил позволения пригласить ее на вальс и попытался занять ее воспоминаньями о школьных годах Клайва Ньюкома. Он рассказал, как Клайв участвовал в одной драке, и мисс Ньюком как будто слушала его с интересом. Затем он изволил выразить сожаление, что Клайву взбрело в голову стать художником, и тут мисс Ньюком посоветовала ему непременно заказать свой портрет, поскольку внешность у него, как она уверяла, весьма живописная. Мистер Джонс готов был продолжить эту приятную беседу, но мисс Ньюком прервала его на полуслове и, сделав реверанс, воротилась на свое место, подле леди Кью.
— А назавтра, сэр, — рассказывал Боб автору этих строк, коему посчастливилось обедать с ним за общим столом Верхнего Темпла, — когда я встретил ее на променаде, она даже не узнала меня, сэр. Эти светские господа так важничают, что поневоле станешь республиканцем.
Мисс Этель и впрямь была горда, очень горда, и нрав у нее был не из легких. Она не щадила никого из родных, только с милой своей маменькой была неизменно добра, да еще с отцом, с тех пор, как он заболел, держалась очень ласково и заботливо. Но леди Кью она давала сражение за сражением и спешила на выручку тетке Джулии, на которой графиня постоянно упражняла свою способность к мучительству. Барнса Этель обливала презрением, и тот совсем пасовал перед ней; не щадила она и лорда Кью — добродушие не избавляло его от ее насмешек. Графиня-бабушка явно ее побаивалась; она даже перестала травить при ней леди Джулию, — потом она, конечно, сторицей отыгрывалась на бедняжке за ту любезность, которую проявляла при внучке. Особенно резка и несправедлива Этель была с лордом Кью, тем более что молодой граф в жизни не сказал ни о ком худого слова, а если кто не разит других, на него грех нападать. Однако его незлобивость, по-видимому, только ожесточала юную воительницу; она метала стрелы в его честную, открытую грудь, и грудь эта кровоточила от ран. Родные только дивились ее жестокости, а молодой джентльмен был оскорблен в своем достоинстве и лучших чувствах беспричинными нападками кузины.
Леди Кью полагала, что знает причину этой враждебности, и попыталась урезонить мисс Этель.
— Уж не написать ли нам письмо в Люцерн, чтобы вернуть назад этого Дика Тинто? — сказала графиня. — Да неужели ты так глупа, Этель, что сохнешь по этему повесе с русой бородкой? Рисует он прелестно. Что ж, уроками он, пожалуй, сотню-другую в год заработает, и нет ничего проще, как расторгнуть твою помолвку с Кью и свистнуть назад этого учителя рисования.
Этель собрала в кучу все рисунки Клайва, бросила их в камин и подожгла свечой.
— Премилый поступок, — сказала леди Кью. — Теперь ты вполне меня убедила, что совсем не думаешь о молодом Клайве. Мы состоим с ним в переписке, да? Ведь мы кузены, не так ли, и можем писать друг другу миленькие родственные, письма.
Еще месяц назад старая дама употребила бы против Этель оружие поощутимей насмешки, но теперь она побаивалась пользоваться грубыми приемами.
— Ах! — вскричала Этель в порыве гнева. — Что за жизнь мы ведем! Как продаете и покупаете вы своих детей и как при этом торгуетесь!.. Не о бедняжке Клайве мои мысли. У нас с ним разные дороги в жизни. Я не могу порвать с родными, а как бы вы его приняли я хорошо знаю. Будь у него деньги, тогда иное дело: тогда бы вы его встретили с распростертыми объятьями. Но он всего только бедный художник, а мы, как ни как, банкиры из Сити. Мы принимаем его у себя в доме, но смотрим свысока, как на тех певцов, с которыми мама так любезна в гостиной, однако ужинать им подают внизу, отдельно от нас. А чем они хуже нас?
— Мосье де С. из хорошей семьи, душа моя, — возразила леди Кью, — и когда он бросит петь и составит себе состояние, то, конечно, будет снова принят в обществе.
— Вот-вот, состояние!.. — не унималась Этель. — Об этом вся наша забота! С тех пор как стоит мир, люди еще никогда не были так откровенно корыстны! Мы признаемся в этом, мы этим гордимся. Мы обмениваем титулы на деньги и деньги на титулы, и так изо дня в день. Что побудило вас выдать маму за папу? Его ум? Да будь он хоть ангелом, вы отвергли бы его с презрением, сами знаете. Вашу дочь купили на папины деньги, точно так же, как раньше купили Ньюком. Придет ли день, когда мы перестанем так чтить маммону!..