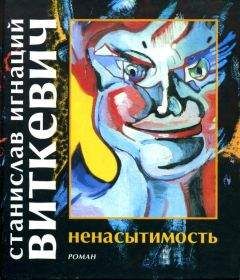Станислав Виткевич - Наркотики. Единственный выход
Внезапно весь мир скакнул, т. е. сделал жуткий кувырок в черепушке (интроекция Авенариуса) Марцелия Кизера-Буцевича. Он почувствовал, что все потерял: Русталку, искусство, себя и всю эту несложившуюся жизнь, которая пронеслась перед ним в самом начале этого сеанса. В эту минуту было так невыразимо плохо, что хуже некуда. Не верилось, что могла твориться такая несправедливость. Он почувствовал себя почти так, как если бы его, совсем невиновного, возвели на эшафот за какое-то не свершенное им преступление или, что еще хуже, любезно предложили ему электрический стул.
Он любил отдельные дни, но ненавидел теперь свою жизнь целиком, жизнь паяца мерзкой химеры, старой и вонючей, которая, помирая, повалилась на него: Пани Искусство (соседство словечка «пани» с «Искусством» было отвратительным, как гнилая почка туберкулезника под каперсовым соусом — вообще Пани, такая польская, глупая, заурядная варшавская Пани, это ведь изрядная гадость, причем, по-видимому, объективно, а не только для Марцелия Кизера — глупая, пустая и чванливая стерва, в незыблемой основе которой так называемый «czar pizdy», уничтожающая все разумное, сильное и глубокое в самце высокого полета). Искусство — скурвившаяся до самого пупка бывшая матрона — и даже в пракаких-то временах — девица, не хуже той с о. Самос, при виде которой умирал Юстиниан Великий, отданный на съедение страшной щекотке двух отъявленных придворных баловниц в черных туниках — одна четырнадцати лет, а вторая — сорока (это блаженство было прекращено ударом копья в живот, нанесенного одним из взбунтовавшихся преторианцев).
«Вот так и умереть бы на вершине жизни» — думал Марцелий, и что-то ужасное быстро, очень быстро зрело в нем. Он видел птичий, немножко как будто семитский (в этом было виновато армянское дворянство по линии бабки, в девичестве Аздрубалевич) профиль Изидора, неприязненно, чуть ли не с отвращением отвернувшегося от него: он вдруг почувствовал, что был для единственного друга чем-то гадким, вроде таракана или клопа, и это задело его больнее, чем вся прозвучавшая лекция. Он не мог быть другим: ни для мамы, ни для тети, ни для сестренки — ни для кого; не был он также и не мог быть другим для Русталки, а если бы и был, то спас бы (по крайней мере ему так казалось) их совместную жизнь и любовь. А любовь кроме заботы двух людей друг о друге это еще и возведение обычной борьбы двух полов на такие высоты духа, на которых эта борьба становится совместным жизненным творчеством.
Тут Марцелия охватило дикое, «неуемное» отчаяние, что минувшего не воротить. Почти домашняя любовь, такая миленькая, полуфилистерская, под аккуратненьким одеяльцем в уютной квартирке показалась ему в этот момент единственным счастьем: где-то вдали маячили недоступные, заоблачные ледовые вершины бесподобного творчества, а у подножия раскинулась скучная долина уже состоявшегося безумия — одно лишь «сумасбродство» представляет интерес, поскольку полудурок пробивается через недоступные другим нагромождения скал граничной полосы к неодолимо притягивающей, вожделенной и страшной стране Большого Бзика. Потом все стабилизируется, войдет в норму, прояснится, сгладится, и опошлевшее сумасшествие станет в своем совершенстве — то ли дома, то ли в больнице — самой обычной, повседневной жизнью, которая потому такая, что ее не с чем сравнивать, как жизнь чиновника маленького учреждения в глубокой провинции.
Марцелий свернулся, как змея, на которую наступили, или как будто кто-то (но кто?) ему по яйцам вдарил ломом. Он рванулся и закричал, а Изидор стал уменьшаться, уменьшаться, пока не стал как хлебный катышек, и в этот-то катышек Марцелий — но об этом позже — кричал, шипя и брызгая в Изидора смертельным ядом, всей горечью своей профуканной (как таковой) жизни, а бедная Суффретка была ему противнее водяной жабы (Bombinator igneus).
— Как ты смеешь?! Как ты смеешь!? Ты еще смеешь меня поучать? Давай коко, — обратился он к дрожавшей Суффретке, — сейчас же давай — не то зарежу тебя грязным шпателем[250], стурба твоя влянь елбястая!
Она дала. Он втянул.
Изидор не смел протестовать, испуганный каким-то адским темно-пурпурным величием, которое Марцелий (этот «бедняжка Целек») излучал во все стороны.
— Так вот: ты никогда не понимал, в чем суть искусства. Настоящее искусство, а не какие-то там интеллектуальные комбинации ради эффекта и славы, это нечто такое, что крепко держит художника в своих лапах, а вовсе не он держит это. Ты не понимаешь простой вещи. И я, воющий теперь по прошедшей жизни...
— Это отвратительно! — воскликнул Изя, упоенный собственной чистотой и простотой.
— Тогда — проблюйся и катись, а нет — так слушай...
— Я для твоего же блага...
— В задницу это твое и мое благо — существует только мое искусство — о! — еще, может, штук сорок таких же размалеванных холстин — и баста, а кроме него — моя загубленная жизнь. И несмотря на то что я фактически нахожусь во власти химеры, ответственность за три четверти этого жизненного фиаско лежит только на тебе, и ни на ком ином!
— Я, я, — бормотал Изидор, и в этот момент страшное озарение осветило его череп изнутри. Он весь засиял, как какое-нибудь учреждение, как сам ПЗП в день рождения Гнэмбона Пучиморды. Он увидел всю систему выведенной из одной фразочки: «Понятие Бытия подразумевает понятие множества» — как громадную кишку, вылезшую из распоротого пуза. И в такую минуту этот проклятый Марцелий готовился выполнить свой демонический прыжок! Но о том потом, говорю (ведь польским же языком, черт побери, говорю) — теперь у нас другие дела, а именно: предварительная теория факта, которая стократ важнее самого факта. А тот (Марцелий) просто ревел, и казалось ему, что извечные истины, разделанные понятийной мясорубкой в фарш, выползают из его перекошенной морды.
— Ты, ты, ты — со всей твоей философией, которая всего лишь предлог для филистерского жизненного удобства.
Он почувствовал «отвращение», граничащее «avec une nausée»[251] , таким мерзопакостным показался ему весь этот Изя со всем его духовным комфортом, источником которого были исправно функционирующие: желудок, клозет и кухарка, и... (о, как же я это ненавижу, но иногда — должен — вот трагедия) ЖЕНА. Да, это безобразно, и над этим — жалкая, без малейшего риска холодно в ы р а б о т а н н а я, а не сотворенная, с и с т е м а п о н я т и й, пусть даже гениальнейшая из гениальных, н о в с е г о л и ш ь п о н я т и й — не цветов, не звуков, слов и форм, связанных в единство драматическими, вулканическими, до безумия болезненными (от опасных наслаждений) узлами художественых уз, божественно свободных в своей неумолимости и неизбежности. Что выше — искусство или философия? — никто не решит этой дилеммы: и без одного и без другого жизнь была бы не-вы-но-си-мым свинством, но без второго, кажется, большим.
— Ты, выскребыш, «из лона материнского в ночь брошенный» [ему было известно о чем-то таком в жизни Изидора — то ли преждевременные роды, то ли еще что-то наподобие этого, — а теперь, вопреки своим принципам дружбы и элементарной вежливости, отравленный адским ядом (C17H21NO4 — не чудо ли, что именно такое сочетание невинных элементов так действует на мозги таких именно созданий и что где-то в каком-то растении — в Erythroxylon coca в Перу — это есть — не-веро-ятно), он только что им попользовался, не ощущая мерзости совершаемого свинства — увы, таков уж он, кокаин], ты забрал ее у меня, — выложил он наконец свою неистинную, основательно фальсифицированную в тайных внутренних лабораториях фальши квазиистину, в которую теперь, находясь в кокаиновых измерениях, он свято верил.
И тут в нем лопнул баллон самых разных наваленных за долгие годы нечистот и преступлений против себя, и он выплеснул все это из грязного ушата в испуганную бедную мордашку Изидора, который на самом деле (а особенно в трезвом измерении) был нисколько во всем этом неповинен. Теперь Марцелий говорил уже спокойно и желчно, отчеканивая каждое слово и каждый квант яда (морального), которым хотел уничтожить противника. Он был воплощением спокойствия и меры — и то и другое было страшно. Он уже не видел друга — перед ним стояла старая шлюха, питавшаяся его мозгом — Пани Искусство собственной персоной, — выпивая его, словно некую взвесь в каком-то приготовленном по ее рецепту инфернальном лимонаде.
— Видишь, Изя: передо мною была одна возможность позитивно устроить свою жизнь, связав ее с творчеством, — была, но только лишь с ней. Ты забрал ее у меня своим интеллектом — она ведь не любит тебя (никакого впечатления на Изидора — Изя чувствовал кокаиновую фальшь всей этой концепции — разогревать прошлое на кокаине можно довольно точно, но вот сегодняшний день всегда оказывается фальсификатом — и с этим ничего не поделаешь). Ты отнимешь у нее веру, которой я, несмотря на то что сам неверующий, un mécréant — совершенно не трогал — и ты ее потеряешь. Ты — вампир, который должен кого-нибудь высосать, я давал ей полноту жизни, которую ты в ней забьешь для того, чтобы создать систему никому не нужных символов — безотносительно к тому, соответствуют они как целое реальности или нет.