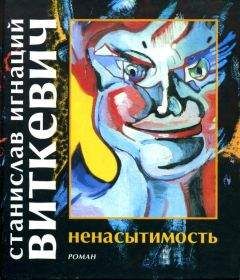Станислав Виткевич - Наркотики. Единственный выход
— Но, пан Вендзеевский, он ведь никогда н е т р е з в е е т, он дошел до состояния равномерно плотной непрерывной ненормальности, он совсем не спит, раз в неделю впадает в абсолютно скотскую апатию, это не сон, это своего рода паралич, полусмерть. Я не знаю, что делать — я так люблю его, а если не даю ему делать того, что он хочет, он укоряет меня, что я не ставлю его ни во что, — заголосила несчастная так страшно называемая Суффретка и разрыдалась. — Что делать, что делать?..
— Мадам, — начал Изидор, воспользовавшись минутным экстазом Марцелия, — его надо или спасать, и тогда вы сделаетесь garde-malade[248] при этом мармеладе, то есть обычном наркомане на излечении, потому что без этого он уже не будет рисовать — я в этом уверен так же, как в том, что в данную минуту я...
— А Хвистек утверждает, что даже в собственном существовании нельзя быть уверенным — не только вообще, но даже в данный момент. Он пошел дальше Декарта...
Изидор сжался, как будто его пропустили через какую-то невидимую гигантскую выжималку.
— Оставьте вы раз и навсегда этого проклятого Хвистека — собственными руками, если б только мог, я задушил бы этот призрак абсолютного релятивизма, обретающийся на перевалах абсурда — это чудовище, а не философ, простонародные бредни для умственных недоносков, а впрочем — не о том речь.
— Вы ошибаетесь: это величайший гений современной мысли, только и единственно преподнесенной под видом абсолютной банальности, — с козлиной упрямостью продолжила Суффретка, недавно начитавшаяся Хвистека и совершенно искренне полагавшая, что теперь имеет право всем прочим пренебречь.
Изидор сжался еще раз, но это мало помогло. Предстояла дискуссия самое малое часа на три, на четыре, а тут его друг просто погибал от отравления мерзким, притом белым (о ужас!) ядом. Он врезал кулаком по этажерке, так что та аж заскрипела, и изрек:
— Компресс, компресс, ради всего святого, не то прочту стих одного идиота:
Узнай, хлыщ, об этом и сгинь поскорей.
Не думай про Хвистка, не знал ты свиней,
Теперь же узнал и как в омут попал —
Быстрее дуй отсюда, мой....
— Надеюсь, последнего слова вы не произнесете, — взорвалась Суффретка, надула губки и с гримасой обиды сменила компресс на поросшей прекрасной блонд-растительностью груди любовника и друга.
— Прежде всего — там повторялось слово «дуй».
— Что свидетельствует о том, что у поэта нет чувства юмора и такта, — отрезала Суффретка. В эту минуту она была так красива, что Изидора даже что-то кольнуло туда, «откуда перец растет». Потупленный взор, казалось, напоминал о чем-то безмерно постыдном, свинском, но притягательном. Изгиб шеи искушал своим приличным неприличием, маня к вещам страшным... Но довольно об этом.
Изидор вдруг заговорил с изысканностью, напоминавшей лучшие времена и традиции «отеля» де Рамбуйе:
— Вот что, Марцелий, послушай меня, прочти книгу Виткация о наркотиках, а пока я скажу тебе следующее: я понимаю и питье, и потребление время от времени черт знает чего, но это годится для титанов, которые свободны от привыкания. А ты хроник — разве может быть что-нибудь более гадкое, причем вне зависимости от того, во имя каких целей это делается: не быть собой и не быть даже гиперконструкцией, выросшей из собственных потрохов, органично созданной собственной волей и промышлением, а быть лишь хлипким домиком, сколоченным из каких-то отходов, которые можно раздобыть за пару голландских гульденов и швейцарских франков, потому что за наши деньги этого не купишь, клошар ты духовный!
Изидор распалился, он вдруг почувствовал себя «трудным и неудобным», как он говорил, другом Марцелия — не тем, с которым приятно оторваться, начав с маленькой кружки пива в каком-нибудь баре перед обедом (потом мужика, заблеванного и бессознательного, относят домой в три часа ночи) и доходя до каких-то более крупных и существенных «untergang»’ов, а тем, кто, рискуя собой, спрямляет пути (часто хамские, а не «панские») другого человека и нередко платит потом потерей дружбы, которую он ценил так высоко, что считал себя обязанным уничтожить ее в случае так называемого «несоответствия» другой стороны. Но говорил он скучно и некстати, и это привело к роковой развязке. Так вот, говорил он не более и не менее, а буквально так:
— Мой дорогой Целек (уже одно это не нравилось находившемуся в полуобмороке от внутренних давлений Кизеру) — а стало быть, Целек мой дорогой, дорогой мой Целек: жизнь, она одна и единственная — этого никто, как правило, не понимает и часто до конца жизни думает так же, как и во времена своей ранней молодости, когда впереди миллионы возможностей и тысячи жизней или животов — и так плохо, и так нехорошо...
М а р ц е л и й: Хорошо, хорошо, только без предисловий. О чем забота? Чтоб я не пил, не употреблял коко, ну — и не рисовал. Не надо этих проповедей для домохозяек — я этого просто не вынесу, и все тут! Ну?
И з и д о р: И что же ты сделаешь, если не вынесешь? (Это он сказал с просто-таки ангельской улыбкой высшей доброты и такого превосходства, которое не измерить с помощью веревки и колышков здесь, на земле: это было превосходство всеведущего философа, и именно это, а не другие реминисценции, больше всего взбесило Марцелия.)
Суффретка, преображенная в какую-то Ниобу или похожую греческую бестию, слушала в бесконечно соблазнительной позе, опираясь о изголовье (?) дивана. В такие минуты она через соломинку поглощала реальность из громадной бадьи житейских нечистот. Тогда в ее бедной головенке роились обычные бытовые «три чуда», и она была так серьезна и строга, так отважна и важна, так прекрасна, и так уж она разматронилась, эта бедная шлюшка, как камбала на постном масле, чтобы быть эротически смачной для своего любимого Целиньки. Но даже в этих диких симптомах он был для нее самым желанным — просто она любила его, эгоистически, по-хамски, для себя, а не для него.
— Ну и что же ты, несчастный, сделаешь? — повторил Изидор, потеряв дыхание от гадливого прилива доброты, идущей от слабости и мелочности, а не от мощи и презрения, — доброты à la Уайльд и Верлен в тюрьме, доброты самого худшего пошиба, так необходимой «слабакам» в горе. Таких много, но лишь пара из них обладала, к несчастью, литературным талантом, и потому их «борьба с собственной мерзостью» стала «культурным достоянием широких масс», выросла до уровня проблемы бытия. А разные бесплодные псевдоэстетические (au fond никакие, серожизненные) головы кумекали, за неимением лучшего занятия, над тем, что «поэт понимал» под такими-то и такими-то словами, которые помимо их формальной ценности шли от того, что живот свело или ушла невеста. Эта грязь есть во всяком искусстве — и она отвратительна, да к тому же все виды умственной удрученности еще и сознательно толкают искусство в эту грязь, превознося по глупости и невежеству его несущественные ценности в ущерб ценностям существенным, которых им не понять.
— Что же ты сделаешь, несчастный? — еще раз пророкотал Изидор и тут же вообще забыл, о чем шла речь.
Тогда он начал совсем о другом:
— Самое ценное в современном человеке — это его интеллект...
— Но не в искусстве: ты страшный зануда.
— Молчи — и этот-то интеллект ты хочешь сгубить; даже в искусстве он необходим, а ты хочешь сгубить его до срока и прожить жизнь как преждевременный — и физический и артистический — импотент... (Теперь он говорил по программе — запал иссяк — и ощущал всю незначительность слов, а мерзкая для него еще минуту назад мазня, напротив, сияла теперь с безумной силой на всю мастерскую, создавая невероятное напряжение между всеми присутствующими особами.)
— Fi donc[249], — прервала Суффретка, затыкая прекрасной формы маленькие розовые ушки.
— Да, — грозно повторил Изидор. — То, что я говорю, не означает, будто искусство сегодня — это чисто интеллектуальный вымысел: я думаю об обязательной контролирующей роли интеллекта, как раз на фоне ошалевшего метафизического пупка (или непосредственно данного единства личности), отсутствия меры вследствие ненасытимости формой и артистического извращения, состоящего в создании формальных построений из самих элементов и их меньших, чем произведение в целом, неприятных комбинаций, да еще на этом фоне демократизации всяческого искусства...
С у ф ф р е т к а: Вот о чем проболтали они все время. Вот зачем он столько принял этой гадости.
М а р ц е л и й (просим прощения, грязно выругался): Стурба твоя сука, молчи, контрапупка!! Вы — мелкие созданьица, приземленные, богобоязненные, но в любом случае — крайне неприятные. Если вы не понимаете, какое это наслаждение — гибнуть за искусство, тогда хоть верьте мне, вопреки болтовне дешевых спасателей так называемого «духа» с большой буквы «X», только взаправду погибая, можно в нем что-то сделать — все, больше я с вами не разговариваю, баста. А впрочем, я тебе все это говорю, потому что она уже давно это поняла — она ощущает это непосредственно, эта телка-извращенка, эта подпорченная стервоза, которая, несмотря ни на что, меня желает, и потому — тянутся все ее органы ко мне, и только ко мне — все ее внешние и внутренние органы. Потому я и люблю ее — эту глупую комнатную сучку метафизического мастурбанта, который сосет титьку небытия через тонкую стеклянную пипетку замаскированного оправдания своей жизни... (Внезапно он впал в такую страшную задумчивость, что Изидор прикусил свой с утра обложенный язык. Происходило что-то страшное — это чувствовали все присутствующие, а некоторые неприсутствующие даже говорили об этом: Маске-Тауэр, Менотти-Корви и Темпняк, которые именно в этот момент kuszali zawtrak с Надразилом у Лангроди в Пассаже Мясопустных Каракатиц.)