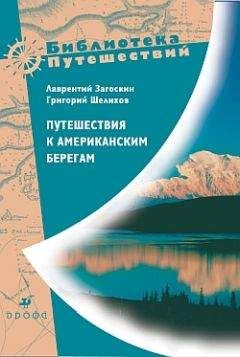Луи Селин - Путешествие на край ночи
Я говорю: день и ночь, потому что вы же знаете, Фердинан, эта сволочь не перестает блудить даже ночью, во сне. Этим все сказано! И вот они углубляются в себя, расширяют свои мыслительные способности. Мучают самих себя. И вокруг них остается лишь мерзкий винегрет из органических отходов, варево из симптомов безумия, которое сочится и каплет у них отовсюду. А руки у них полны тем, что осталось от разума, они вымазаны и воняют этим, они карикатурны и презренны. Все, все рушится, Фердинан, все рухнет — и скоро, это предсказываю вам я, старый Баритон. И вы увидите всеобщее крушение, Фердинан: вы ведь еще молоды. Да, увидите! О, я обещаю вам кучу радостей. Вы все переберетесь в шкуру своих пациентов. Еще один хороший приступ безумия, еще один, и хлоп! Вперед, к сумасшедшим! Наконец-то! Вы станете свободными, как вы выражаетесь. Вас слишком долго подмывало ими стать. Ничего не скажешь, смелый шаг! Но когда вы влезете в шкуру безумца, вы в ней, дружочек, и останетесь, это я вам обещаю.
Запомните хорошенько, Фердинан, конец всего начинается с исчезновения чувства меры. Я лучше других могу вам рассказать, с чего начался всеобщий распад. Он начался с отступлений от меры. С заграничных крайностей. Нет меры — нет силы. Это же сказано в Писании[93]. Итак, весь мир — в небытие? Почему бы и нет? Весь? Разумеется. Мы не идем туда — летим. Летим в полном смысле слова, давя друг друга. Я видел, Фердинан, как разум стал постоянно утрачивать былую уравновешенность и растворяться в колоссальных апокалиптических амбициях. Это началось около тысяча девятисотого… Вот дата! Начиная с нее мир в целом, психиатрия в частности свелись к отчаянному соревнованию в развращенности, похотливости, оригинальничанье, мерзости — словом, в творческом импульсе, как выражаются наши милые коллеги. Хорошенькая мешанина! Каждый силился раньше других посвятить себя чудовищу, зверю без сердца и удержу. Этот зверь пожрет нас всех, Фердинан, это ясно и это хорошо. Зверь? Да, одна огромная голова, которая мотается, как ей вздумается. Его войны и его герои уже сверкают нам со всех сторон. Все очень просто. Ах, нам было скучно в границах сознания? Что ж, больше скучно не будет. Для развлечения мы начнем трахать друг друга, а уж потом испытывать впечатления, интуитивные позывы. Как женщины!
К тому же так ли уж необходимо в положении, до какого мы дошли, отягощать себя предательским словом «логика»? Конечно, нет. Логика была бы помехой в наше время, которое породило бесконечно тонких, подлинно прогрессивных ученых-психологов… Не вздумайте в этой связи, Фердинан, доказывать мне, что я презираю женщин. Вот уж нет! И вы это знаете. Но я не люблю их впечатлений. Я индивид с мошонкой, Фердинан, и, уж если я усвоил какой-нибудь факт, я так легко с ним не расстанусь. Знаете, случилась как-то со мной любопытная история. Меня попросили взять к себе одного писателя. Он молол чепуху. Знаете, что он нес уже больше полутора месяцев? «Отольем… Отольем…» Он орал это на всю лечебницу. Он действительно был, так сказать, не в себе. Переступил границы разума. Но дело в том, что он действительно испытывал адские муки, когда отливал. Застарелое сужение отравляло его уриной, преграждая ей выход из мочевого пузыря. Я без конца прибегал к зонду, капля по капле удаляя излишнюю жидкость. Несмотря ни на что, родня настаивала, что умственное расстройство писателя связано с его гением. Я безуспешно пытался втолковать, что у пациента не в порядке мочевой пузырь, — семья не желала ничего слышать. Для нее он пал жертвой творческого перенапряжения, и все тут. В конце концов мне пришлось согласиться. Вы ведь знаете, что такое родственники, не так ли? Им невозможно вдолбить, что человек, как бы он ни был им близок, всегда не что иное, как гниль с отсрочкой. За гниль с отсрочкой они платить не станут.
Вот уже лет двадцать с гаком Баритон из кожи лез, удовлетворяя придирчивое тщеславие родни своих больных. Оно отравило ему существование. Человек, на мой взгляд, терпеливый и уравновешенный, он все же хранил в сердце прогорклые залежи давней ненависти к родственникам. В ту пору, когда я жил через стенку от него, он окончательно потерял терпение и упрямо силился тайком раз навсегда так или иначе освободиться, отделаться от тирании родственников. У каждого из нас свои способы избавляться от какой-нибудь тайной муки, и все прибегают с этой целью к разным хитроумным приемам, подсказанным обстоятельствами. Счастлив тот, с кого достаточно борделя!
Что касается Суходрокова, он, похоже, был очень доволен избранной им дорогой молчания. А Баритон — я понял это лишь позже — всерьез задавался вопросом, сумеет ли он когда-нибудь отделаться от родственников своих пациентов, от зависимости от них, бесконечных отталкивающих психиатрических пошлостей ради пропитания — словом, от себя самого. Ему так хотелось чего-то совершенно нового и непохожего, что он вполне созрел для бегства и исчезновения; отсюда его критические тирады. Его эгоизм подыхал под грузом рутины. Он был больше не в силах ничего идеализировать, он просто мечтал удрать, унести куда-нибудь свое тело. Но Баритон в отличие от своей фамилии был натура никак уж не музыкальная; поэтому, чтобы с чем-то покончить, ему надо было по-медвежьи перевернуть все вверх дном.
Он, считавший себя таким рассудительным, обрел свободу с помощью скандала, которого лучше было бы избежать.
Что до меня, то состоять у него ассистентом казалось мне вполне приемлемым.
Рутина лечения нисколько меня не утомляла, хотя, конечно, мне время от времени становилось не по себе: например, после слишком долгих бесед с пансионерами меня охватывало нечто вроде головокружения, словно навязчивыми фразами, бессмысленными словами они увлекали меня с собой далеко от привычного для меня берега в самую гущу своего бреда. На мгновение я терялся, не представляя, как оттуда выбраться, и опасаясь, что меня незаметно и навсегда заперли вместе с их безумием.
Я удерживался на опасной грани разума, на его, так сказать, опушке, благодаря своей неизменной любезности с больными — такая уж у меня натура. Я старался твердо стоять на ногах, но мне все время казалось, что пациенты исподтишка затащили меня в глубь своего, незнакомого мне, города. Города, улицы которого раскисают по мере того, как углубляешься все дальше между их слюнявыми домами с плохо пригнанными расползающимися окнами и подозрительными шумами внутри. Двери расхлобыстаны, земля уходит из-под ног, и тем не менее вас подмывает пройти еще немного вперед, чтобы проверить, хватит ли у вас сил вновь обрести свой разум среди развалин. Это желание быстро становится болезненным, как мечта о хорошем настроении и сне у неврастеника. Вы не можете думать ни о чем, кроме своего разума. Все разлаживается. Шутки кончились.
Вот так, от сомнения к сомнению, и шли дни, пока не настало четвертое мая. Знаменательная дата. Случайно в тот день самочувствие у меня было просто чудесное. Пульс семьдесят восемь. Как после хорошего завтрака. Внезапно все завертелось. Я стараюсь за что-нибудь зацепиться. Все превращается в желчь. У людей делаются странные лица. Мне кажется, что они перекошены, как от лимона, и еще более злобны, чем всегда. Видимо, я чересчур неосторожно забрался слишком высоко, на самую вершину здоровья, и оттуда опять грохнулся, да прямо перед зеркалом, зато могу теперь со страстным интересом наблюдать за тем, как старею.
Когда приходят такие вот странные дни, все отвращение, вся усталость, скопившиеся у вас за столько лет перед носом и глазами, сливаются в одну сплошную массу. Отдельные случаи перестаешь различать. Их слишком много для одного человека.
Словом, меня неожиданно потянуло вернуться в «Таратор». Особенно потому, что Суходроков перестал разговаривать и со мной. В «Таратор» мне пути не было — я там все себе испортил. Тяжело все-таки, когда твоя единственная нравственная и материальная опора — твой хозяин, да еще психиатр, а ты не очень уверен в собственном рассудке. Приходится терпеть и молчать. У нас оставался один-единственный предмет для разговора — женщины, безобидная тема, еще дававшая мне надежду хоть изредка позабавить Баритона. По этой части он полагался на мой опыт, признавал за мной кой-какую мерзкую компетентность.
То, что он испытывал ко мне известное презрение, было, в общем, неплохо. Хозяину всегда спокойней, когда его персонал страдает какими-нибудь недостатками. Раб должен любой ценой внушать некоторое и даже глубокое презрение к себе. Набор хронических нравственных и телесных пороков оправдывает злополучность его судьбы. Земле удобней вращаться, когда каждый на ней занимает место, которое заслужил.
Существо, служащее вам, должно быть низким, бесцветным, неудачливым. С таким легче, и ему можно платить мало, как делал Баритон. В подобных случаях обостренной скупости наниматели становятся подозрительны и беспокойны. Никчемность, разврат, беспутство и преданность объясняют, оправдывают и гармонически дополняют друг друга. Баритону было бы с руки, если бы меня разыскивала полиция. Это делает человека преданным!