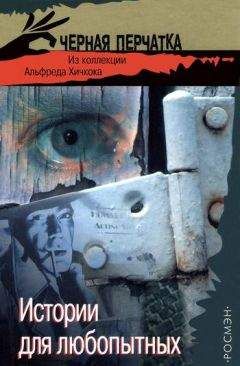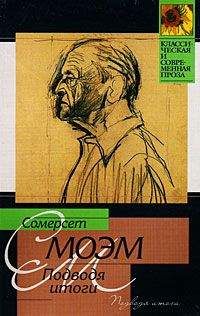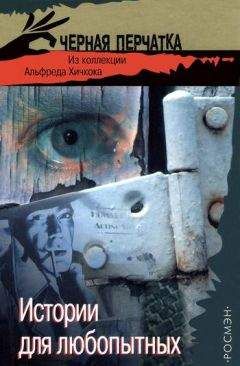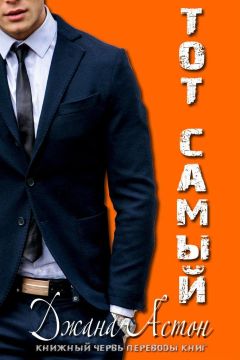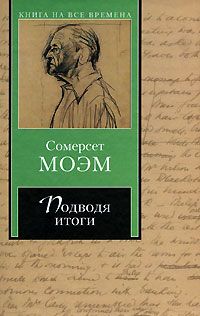Уильям Моэм - Собрание сочинений в пяти томах. Том пятый. Пьесы. На китайской ширме. Подводя итоги. Эссе.
LII
К тому времени я сильно устал. Устал не только от людей и мыслей, так долго занимавших мой ум, но и от тех людей, среди которых жил, и от самой жизни, которую вел. Я чувствовал, что взял все возможное от того мирка, в котором вращался: успех у зрителей и безбедное существование как результат этого успеха; светскую жизнь, званые обеды у важных персон, блестящие балы и воскресные сборища в их загородных резиденциях; общение с умными и блестящими людьми — писателями, художниками, актерами; легкие связи и необременительную дружбу; комфорт и обеспеченность. Я задыхался в этой жизни и жаждал новой обстановки и новых впечатлений. Но я не знал, где их искать. Я подумывал о том, чтобы уехать из Англии. Я устал от самого себя, и мне казалось, что путешествие в какие-нибудь далекие края поможет мне обновиться. В то время многие интересовались Россией, и я носился с мыслью отправиться туда на год, изучить язык, который я уже немножко знал, и проникнуться настроением этой необъятной и таинственной страны. Я думал, что там, возможно, почерпну новые душевные силы. Мне было сорок лет. Если я вообще собирался жениться и обзавестись семьей, то медлить с этим не стоило, и с некоторых пор я забавы ради пробовал иногда представить себя женатым человеком. Ни на ком в частности мне не хотелось жениться. Меня привлекал брак как таковой. Казалось — это необходимый пункт в намеченной мною программе жизни, и в простодушии своем (я был уже не молод и считал себя умудренным в житейских делах, но во многих отношениях все еще был невероятно наивен) я воображал, что брак сулит мне покой: не будет больше треплющих нервы связей, поначалу, может быть, и легких, но чреватых неприятными осложнениями (поскольку в романе ведь участвуют двое, и слишком часто то, что для мужчины удовольствие, для женщины оборачивается трагедией); я смогу писать все, что захочу, не теряя даром драгоценного времени, не отвлекаясь лишними заботами. Покой и упорядоченный, достойный образ жизни. Я искал свободы и думал, что найду ее в браке. Это представление сложилось у меня, когда я еще писал «О человеческом рабстве», и, обратив мечту в вымысел, как это свойственно писателям, я в конце книги нарисовал такой брак, какой мог бы соблазнить меня самого. По мнению большинства читателей, это самая слабая часть книги.
Однако все мои колебания разрешило событие, над которым я не был властен. Разразилась война. Одна глава моей жизни закончилась. Начиналась новая глава.
LIII
У меня был знакомый — член кабинета, и я написал ему с просьбой помочь мне получить работу, после чего был вскоре вызван в военное министерство; но, опасаясь, что меня засадят в какую-нибудь канцелярию в Англии, тогда как мне хотелось поскорее попасть во Францию, я тут же завербовался в автосанитарную часть. Не думаю, чтобы я был патриотом меньше других, но к моему патриотизму примешивалась жажда новых впечатлений, и во Франции я с первого же дня стал вести дневник. Однако работы все прибавлялось, и к концу дня я так уставал, что только о том и мог думать, как бы добраться до постели. Я наслаждался новой жизнью, в которую так внезапно окунулся, и отсутствием ответственности. Мне, со школьных лет не слышавшему приказаний, приятно было, что мне велят сделать то-то и то-то, а когда все было сделано — знать, что теперь я волен распоряжаться своим временем. Как писатель, я этого никогда не чувствовал; напротив, мне всегда казалось, что нельзя терять ни минуты. Теперь я со спокойной совестью часами просиживал в кафе за разговорами. Мне нравилось встречаться с сотнями людей, и хотя я перестал вести дневник, но бережно копил в памяти их характерные черты. Особой опасности я не подвергался. Мне интересно было, как она на меня подействует. Я никогда не считал себя очень храбрым, да и не видел, зачем мне это нужно. Единственный случай проверить себя представился мне в Ипре, когда на Главной площади снарядом разбило стену, возле которой я за минуту до того стоял, а потом отошел, чтобы поглядеть с другой стороны на разрушенный дом цеха суконщиков; но тут я так удивился, что мне было не до наблюдений над самим собою.
Позже я поступил в органы разведки, где, как мне казалось, мог принести больше пользы, чем управляя (и притом неважно) санитарной машиной. Новая работа давала пищу и моей любви к романтике, и чувству юмора. Методы, какими меня учили спасаться от слежки, тайные встречи с агентами в самых несусветных местах, шифрованные сообщения, передача сведений через границу — все это было, конечно, необходимо, но так напоминало мне дешевые детективные романы, что война в большой мере теряла свою реальность и я поневоле начинал смотреть на свои приключения как на материал, который смогу когда-нибудь использовать. Впрочем, все это было до того старо и избито, что я сильно сомневался в пригодности такого материала. Год я работал в Швейцарии. Работа была сопряжена с разъездами, зима выдалась суровая, а мне по долгу службы приходилось во всякую погоду пересекать на пароходиках Женевское озеро. Со здоровьем у меня было очень неважно. Когда работа в Женеве кончилась, я оказался свободным и отправился в Америку, где в это время готовили к постановке две мои пьесы. Мне хотелось восстановить свое душевное равновесие (по собственной глупости и заносчивости я потерял его в связи с обстоятельствами, о которых нет нужды рассказывать), и я решил уехать в Полинезию. Меня тянуло туда еще с тех пор, как я мальчишкой прочел «Отлив» и «Тайну корабля»[*40], а кроме того, хотелось собрать материал для давно задуманного мною романа, основанного на жизни Поля Гогена.
Я уехал на поиски красоты и романтики, счастливый тем, что целый океан ляжет между мной и неприятностями, которые меня порядком потрепали. Я нашел и красоту, и романтику, но, кроме того, нашел нечто такое, на что и не рассчитывал: нового себя. С тех самых пор, как я расстался с больницей св. Фомы, я жил среди людей, придававших значение культуре. Я проникся убеждением, что в мире нет ничего важнее искусства. Я искал смысла существования вселенной, и единственным смыслом, какой я мог найти, была красота, время от времени создаваемая человеком. Жизнь моя, казалось бы разнообразная и интересная, в сущности, была ограничена очень узкими рамками. Теперь мне открылся новый мир, и всем своим инстинктом писателя я с упоением стал вбирать его новизну. Не только красота островов меня захватила — к этому меня подготовили Герман Мелвилл и Пьер Лоти, и хоть красота здесь иная, но ей не уступает красота Греции или Южной Италии; и не только легкая, неторопливая жизнь, чуть сдобренная приключениями. Самое интересное было то, что я встречал еще и еще людей, совершенно для меня новых. Я был подобен натуралисту, попавшему в страну с невообразимо богатой фауной. Кое-кого я узнавал: я их помнил по книгам; и теперь они вызывали во мне то же радостное изумление, какое я однажды испытал на Малайском архипелаге, когда увидел на дереве птицу, ранее виденную мною только в зоологическом саду: первой моей мыслью было, что она улетела из клетки. Но встречались и совсем незнакомые, и они волновали меня так же глубоко, как Уоллеса во время его экспедиций — новый вид животного. Общаться с ними оказалось легко. И какие только типы тут не встречались! Впору было растеряться от такого разнообразия, но я уже понаторел в наблюдении над людьми и без особых усилий раскладывал их по полочкам в своем сознании. Культурных людей среди них почти не было. Мы с ними учились жизни в разных школах и пришли к разным выводам. И жили они на другом уровне, причем чувство юмора не позволяло мне по-прежнему считать, что мой уровень выше. Он был просто другой. Если вглядеться повнимательнее, их жизнь тоже складывалась по определенной программе и следовала определенной логике.
Я спустился со своего пьедестала. Мне казалось, что эти люди более живые, чем те, которых я знал до сих пор. Они горели не холодным, рубиновым пламенем, а жарким, дымным, снедающим огнем. Они тоже были по-своему ограниченны. И у них были свои предрассудки. И среди них было много глупых и скучных. Но это меня не смущало. Они были новые. В цивилизованном обществе индивидуальные черты сглаживаются, поскольку люди вынуждены соблюдать известные правила поведения. Культурность — это маска, скрывающая их лица. Здесь люди жили без покровов. Эти разнородные создания, попав в обстановку, еще сохранившую много первобытного, не считали нужным приспосабливаться к каким-то нормам. Индивидуальность могла здесь раскрываться без помехи. В больших городах люди напоминают камни, насыпанные в мешок: их острые края постепенно стираются, и они становятся гладкими, как галька. У этих людей острые края не стирались. Человеческая природа проявлялась в них более зримо, чем в тех людях, среди которых я так долго прожил, и я всей душой потянулся к ним, как много лет назад — к тем, что приходили на прием в амбулаторию при больнице св. Фомы. Я заполнял записные книжки короткими описаниями их внешности и характеров, и постепенно, начинаясь с намека, с подлинного происшествия или счастливой выдумки, вокруг некоторых из них, наиболее ярких, стали складываться рассказы.