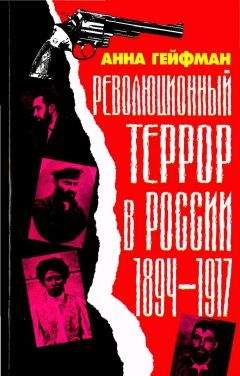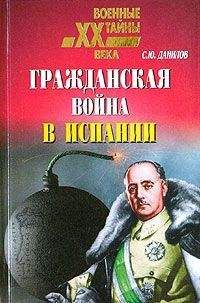Эльза Триоле - Анна-Мария
— Я зайду к вам, — сказал полковник, — вы расскажете мне о своих последних изобретениях.
— Вы всегда желанный гость, полковник…
Полковник, мэр, вынырнувший из толпы Клавель, приземистый кюре, подвижной, улыбающийся — тот самый кюре, с которым Анне-Марии не удалось повидаться, когда она приезжала в Кремай с Жозефом, — и еще какие-то незнакомые ей люди поднялись на маленький помост. Улица была запружена народом, машинами, велосипедами. Карусель перестала вертеться, карабины уже не стреляли, лотерейное колесо замерло… Под голубым небом, по-осеннему золотистым, наступила тишина.
— Товарищи, друзья, французы и француженки… — раздался голос Жако.
Анна-Мария видела его широкие, возвышающиеся над толпой плечи, его большую круглую непокрытую голову… Она была настолько далека от всего, что происходило, все это до такой степени не касалось ее, что ей самой стало страшно. Что бы такое сделать, немедленно… может, уйти?.. Она проскользнула в кафе, а оттуда через заднюю дверь вышла на улицу, сразу за площадью. Она расталкивала людей, шепча «извините»… На нее неприязненно поглядывали, некоторые сердились.
— Мы не позволим… — звучал за ее спиной голос Жако.
Наконец, выбравшись из тесной толпы, она свернула в первую попавшуюся улочку… Еще несколько шагов — и все смолкло. Вокруг — спокойно, пустынно, тихо… Она вышла на дорогу и зашагала.
Пройдя пешком пять километров, Анна-Мария села в автобус, который остановился, когда она подняла руку. Всю дорогу Анна-Мария спрашивала себя, что с ней такое: так ощупывают себя после падения, после автомобильной катастрофы, проверяя, все ли кости целы…
Когда она доехала до селения, солнце, без лучей, стоявшее уже довольно низко в побелевшем небе, было похоже на яичный желток, вылитый на огромное блюдо. Было условлено, что Анна-Мария переночует у Жозефа, и она направилась прямо к нему. Надо же было куда-нибудь деваться… Анна-Мария предпочла бы никого не видеть, но куда бы она ни направилась, к Луизетте ли, на постоялый двор или даже обратно в П., в гостиницу — всюду пришлось бы с кем-нибудь разговаривать: у нее было здесь слишком много знакомых. В конце концов лучше всего пойти к Жозефу; его нет дома, он уехал с заводскими рабочими на митинг, а Мирейль будет, как всегда, молчать.
Мирейль ничего не сказала, она даже не выразила удивления, увидев, что Анна-Мария возвратилась одна, и ни о чем ее не спросила. Увидев Анну-Марию, она только широко улыбнулась глазами, губами. Ребенок спал.
— Устала я, — сказала Анна-Мария.
И хотя еще только смеркалось, Мирейль проводила ее наверх, в маленькую спаленку с очень высокой кроватью.
— Спокойной ночи! — сказала Мирейль и тихонько закрыла дверь.
Анна-Мария мгновенно заснула.
Она спала глубоким сном, когда в дверь постучали. Стучали громко, бесцеремонно.
— Да! — крикнула Анна-Мария и с бьющимся сердцем села в постели, предчувствуя беду.
Чудесное солнце вставало за окном, лучи его ударили прямо в глаза Анне-Марии. Жозеф ворвался в комнату, будто взломал дверь. Он был бледен как мертвец.
— Барышня! — закричал он. — Они его убили!
— Кого? — крикнула Анна-Мария.
— Полковника!
— Как! — закричала Анна-Мария. — Убили Жако?
— Да, да, да… — крикнул Жозеф.
— Погоди, я оденусь, — сказала Анна-Мария, — она стала вдруг совершенно спокойной. — Подожди внизу.
Через пять минут она спустилась. Внизу уже были Луизетта — она дрожала так, что у нее стучали зубы, — ее жених и его русский друг… Мирейль с ребенком на коленях сидела в уголке. В комнату бочком входило солнце, ослепительное, прекрасно отдохнувшее солнце, каким оно бывает только при восходе. «Ма-ма-ма-ма…» — лепетал младенец на коленях Мирейль.
Они вернулись из Кремая. Праздник длился всю ночь, они танцевали, танцевали… Но заря еще не занялась, когда они сели в грузовичок. Некоторые парни и девушки уже вернулись домой, другие еще остались в Кремае. За руль сел жених Луизетты, и они проехали пять-шесть километров, когда он сказал: «Что-то лежит там на дороге…» Он затормозил, парни спрыгнули на землю и пошли посмотреть, что там такое; поперек дороги, на самом виду, лежало тело полковника Вуарона с пулей в затылке. Машину его, совершенно целую, отвели в канаву… Полковник уехал из Кремая один, сразу же после митинга, он торопился в П., где ему предстояло провести вечером в кино второй митинг. Тело полковника положили в грузовик и отвезли в П., в больницу: а вдруг они ошиблись, вдруг полковник еще жив!.. Но полковник был мертв. Тогда их вызвали в полицию дать показания. Прямо из П. они поехали предупредить Анну-Марию.
Катафалк стоял на вокзале, в воздвигнутой там часовне-шатре из черных полотнищ; вокруг катафалка горели свечи. Весь город П., все окрестные селения прошли перед гробом, накрытым трехцветным знаменем; почетный караул день и ночь стоял у гроба, по двое — в головах и в ногах… Цветы, букеты, венки с красными и трехцветными лентами образовали вокруг гроба огромную благоухающую клумбу. Поезда свистели, гудели, пыхтели, выпускали пары, набирали скорость… Пассажиры удивленно смотрели на длинную вереницу людей, которые медленно входили в одну дверь вокзала и выходили в другую… Они спрашивали, что здесь происходит; некоторые пассажиры шли поклониться гробу, одни из сочувствия, другие из любопытства; они смотрели на людей, сидевших вдоль стен на скамейках, справа и слева от гроба, и думали: «Семья…» И действительно, то была семья: родители Робера Бувэна, Жозеф и Мирейль, Клавель и многие другие, — все, кто не хотел ни на минуту покинуть тело на этом вокзале, где, возможно, бродили убийцы, неузнанные, безнаказанные… Пассажиры смотрели на гроб, на семью, на подушку с военными орденами, на букеты и венки — целое поле цветов… Они торопились и быстро уходили.
Анна-Мария телеграфировала матери Жако. Ответ пришел только через два дня. Мать Жако лежала в параличе и не могла приехать, вместо нее должен был прибыть какой-то родственник.
Все хлопоты, связанные со вскрытием и прочими формальностями, Анна-Мария разделила с Клавелем. Все расходы она взяла на себя; ими хотели заняться ФТП района, но Анна-Мария не допустила этого: драгоценности Женни могли оплатить похороны того, кто создал эти драгоценности.
Родственник, прибывший наконец, чтобы сопровождать тело в Париж, доводился Жако троюродным братом, и, однако, у него с покойным было фамильное сходство: те же широкие сутулые плечи, те же голубые глаза. Он горячо поблагодарил Анну-Марию за все, что она сделала, и было совершенно очевидно, что он ровно ничего не понимал: ни мотивов убийства, ни этой женщины, которой он не мог отвести определенного места в жизни Жако; ничего не понимал ни в том волнении, которое охватило весь этот край, ни в катафалке с горящими вокруг свечами, ни в веренице людей… Он был пчеловодом из провинции Од, и его ничто в жизни не занимало, кроме меда и пчел.
Анна-Мария вернулась в Париж.
XXXVЛестница. Облупившаяся, желто-фисташковая квартира. Анна-Мария уехала отсюда совсем недавно, потому что скучала, потому что не знала, куда себя девать… Смешно. Так в тридцать лет считаешь себя старом, потому что не знаешь, что тебя ждет в сорок, а в сорок не знаешь, что тебя ждет в пятьдесят… Она тосковала, скажите пожалуйста… Даже смешно. То, что начнется сейчас…
Но не было ли то, что она называла «тоской», на самом деле предчувствием? Чепуха, ничего этого не существует… Какое же это предчувствие, когда у тебя самая настоящая уверенность, уверенность в надвигающейся беде; она чувствовала ее, как чувствуют сырость окутанного туманом болота, где притаились во тьме враги — звери или люди… Стоит ли после того, как несчастье уже стряслось, говорить, что ты его предчувствовала? Не понять вовремя то, что чувствуешь? Да нет, она просто не желала понять — из страха перед реальной опасностью, из отвращения к этой опасности, настолько гнусной, что не хотелось признавать ее существование. Вот когда она начнет скучать… Нет, теперь она будет страдать! А ведь она была такой благоразумной, ведь она сделала все, что могла, чтобы наладить хорошие отношения с жизнью. Она перепробовала все испытанные рецепты: завела любовника, работала, пыталась принимать к сердцу счастье и несчастье людей… Должно быть, эти рецепты хороши, правильны, действенны, когда любишь своего любовника, любишь работу, любишь человечество…
Она не любила Селестена… Работа? Эх, стоит ли говорить! Она казалась себе одноногой калекой, решившей стать велогонщиком. Ей были известны границы ее возможностей, она навсегда останется только рабочей лошадкой. Давать людям счастье насильно, когда они этого не хотят, как детям дают насильно рыбий жир, потому что он им полезен? Она не была уверена, что нужно идти против их желания, и неоткуда поэтому было взяться энтузиазму… Но главное то, что вокруг нее — ни души! Одиночество до самого горизонта. А между тем она сделала все, чтобы вырваться из этой пустыни… Два года протекло с той ночи в гостинице против вокзала, где, ломая руки, она металась в темной комнате, по которой шарили фары джипов. За эти два года ей прибавилось два года, вот и все. Но зато у нее отняли ее единственного, ее великолепного друга. И как отняли! Ах, странный мир оказался опаснее странной войны!