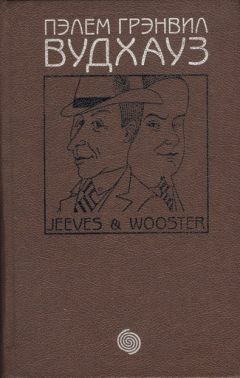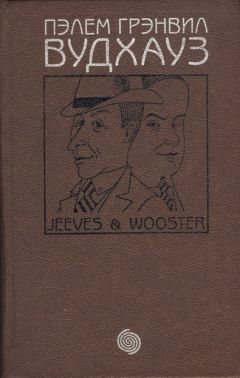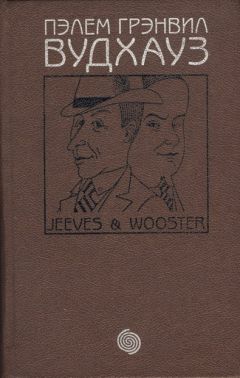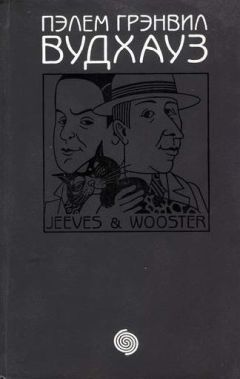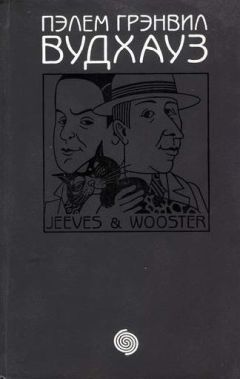Пэлем Вудхауз - Том 8. Дживс и Вустер
— С лордом Эмсвортом? Тем самым, что сейчас гнездится в Бландинге?
Это один такой всем хорошо известный старый гриб, сама добродетель, с утра до ночи ковыряет цапкой у себя в саду.
— Именно. Вот почему сочинение вашего дяди — такая гадость. В нем рассказывается обо всех людях, которых хорошо знаешь, которые сегодня являются воплощением корректности. Выходит, что все они в Лондоне восьмидесятых годов имели такие манеры, каких не потерпели бы и в кубрике самого грязного китобойца. Ваш дядя помнит все постыдные поступки всех знакомых в двадцать лет. Например, он описывает один случай с сэром Стэнли Джервас-Джервасом в «Рошер-вил-Гарденс», с такими ужасными подробностями, оказывается, сэр Стэнли… нет, не могу вам этого пересказать.
— А вы попробуйте.
— Ни за что!
— Да ладно, что вы волнуетесь? Если в этой книге столько смака, ее ни один издатель не напечатает.
— Ошибаетесь. Ваш дядя сказал, что обо всем договорился с издательством «Риггз и Баллинджер» и завтра с утра отсылает им рукопись для немедленной публикации. Они специализируются на таких книгах. Выпустили мемуары леди Карнаби «Восемьдесят интересных лет».
— О, это я читал.
— Тогда, если я скажу, что мемуары леди Карнаби — просто детский лепет в сравнении с воспоминаниями вашего дяди, вы меня поймете. И что ни страница, упоминается имя папочки. Его поведение в молодые годы приводит меня в отчаяние!
— Ну и что же делать?
— Надо перехватить рукопись, прежде чем она уйдет к «Риггзу и Баллинджеру». И уничтожить.
Я чуть не вскочил. Вот это да! Учинить такую шутку — это по-нашему.
— И как вы думаете это проделать?
— При чем тут я? Ведь пакет уйдет завтра утром. А я сегодня вечером уезжаю на бал к Мергатройдам и буду обратно только в понедельник. Это должны сделать вы. Я потому вам и телеграфировала.
— Что-о?
Она холодно посмотрела на меня.
— Вы что, отказываетесь мне помочь, Берти?
— Н-нет, но… Послушайте!
— Это ведь совсем просто.
— Но даже если я… То есть, я хочу сказать… Разумеется, все, что в моих силах… Вы меня понимаете…
— Берти! Вы утверждали, что хотите на мне жениться.
— Конечно, но все-таки…
На минуту она превратилась в совершенное подобие своего папаши.
— Я никогда не выйду за вас, если эти воспоминания увидят свет.
— Но, Флоренс, старушка…
— И не спорьте. Считайте, что это вам испытание, Берти. Если у вас достанет отваги и находчивости осуществить этот замысел, я получу доказательство того, что вы вовсе не такой лоботряс и тупица, каким вас считают многие. А если вы этого не сделаете, я буду знать, что ваша тетя Агата была совершенно права, когда называла вас бесхребетным беспозвоночным и решительно не советовала выходить за вас замуж. Перехватить рукопись, Берти, для вас не составит труда. Нужно только немного решительности.
— А вдруг дядя Уиллоуби меня застукает? Он же не даст мне больше ни шиллинга.
— Ну, если вам дядины деньги дороже, чем я…
— Да нет же! Что вы!
— Вот и прекрасно. Пакет с рукописью будет положен завтра утром на стол в холле, чтобы Оукшотт отвез его в деревню на почту вместе со всеми письмами. От вас требуется только взять его со стола, унести и уничтожить. А дядя будет считать, что пакет затерялся при пересылке.
Мне это показалось довольно малоубедительным.
— А разве у него нет копии?
— Нет. Рукопись на машинке не перепечатана. Он шлет то, что написал от руки.
— Но ведь он может написать все заново.
— Это чересчур большая работа.
— Но…
— Берти, если вы намерены ничего не делать, а будете только выдвигать свои дурацкие возражения…
— Просто я хочу вам заметить, что…
— Не надо, пожалуйста. Отвечайте: да или нет. Вы согласны выполнить эту небольшую просьбу? Сделать для меня одно доброе дело?
То, как она это выразила, сразу натолкнуло меня на ценную мысль.
— Почему бы не поручить это Эдвину? Ограничиться, так сказать, семейным кругом. И к тому же порадовать дитя.
Мысль, на мой взгляд, была просто блестящая. Эдвин — ее младший брат, проводивший каникулы в «Уютном». Эдакий малец с хорьковатой мордочкой, которого я терпеть не мог с самого его рождения. Кстати о мемуарах, это он? чертов малютка Эдвин, девять лет назад привел своего папашу туда, где я курил сигару, и навлек на меня тогда кучу неприятностей. Теперь ему сровнялось четырнадцать, и он недавно вступил в бойскауты. Это был необыкновенно серьезный ребенок, к своим новым обязанностям относившийся очень ответственно. Он постоянно пребывал в нервной лихорадке, так как отставал от расписания ежедневных добрых дел: прямо из кожи вон лез и все-таки не управлялся. Он часами рыскал по дому, носился наперегонки с самим собой, превращая усадьбу в истинный ад для людей и животных.
На Флоренс моя блестящая мысль должного впечатления не произвела.
— Ничего подобного я не сделаю, Берти. Неужели вы не способны оценить доверие, которое вам оказывают? Кажется, должны бы гордиться.
— Ясное дело, я горжусь. Просто я хочу сказать, у Эдвина это получилось бы в тысячу раз лучше, чем у меня. Бойскауты, они знают столько разных хитростей, и след умеют взять, и залечь где надо, и подкрасться незаметно, в таком роде.
— Берти, вы выполните мое совершенно элементарное поручение или нет? Если нет, скажите прямо, и положим конец этому дурацкому фарсу. К чему тогда притворяться, будто я для вас что-то значу?
— Дорогая старушка, я люблю вас всей душой!
— Так сделаете или не сделаете?
— Ну ладно, ладно, — сдался я. — Ладно! Уговорили!
И я побрел куда глаза глядят, чтобы тщательно все обдумать. Но только ступил за порог, как чуть не налетел в коридоре на Дживса.
— Прошу прощения, сэр. Я как раз вас разыскивал.
— Что случилось?
— Вынужден поставить вас в известность, сэр, что кто-то измазал ваши коричневые уличные ботинки черной ваксой.
— Что?! Кто? Зачем?
— Не могу сказать, сэр.
— И это уже непоправимо?
— Непоправимо, сэр.
— Проклятье!
— Да, сэр.
После того случая я часто задумывался, как это убийцы умеют сохранять форму, пока вынашивают свои преступные замыслы? Передо мной стояла задача попроще, но и то, обмозговывая ее в ночные часы, я так извелся, что утром встал совершенно больной, под глазами — самые настоящие черные круги, честное слово! Пришлось призвать на помощь Дживса с его живительным снадобьем.
Когда кончился завтрак, я стал чувствовать себя как чемоданный воришка на вокзале. Ошивался в холле, дожидаясь, пока на стол положат пакет. А его все не клали. Должно быть, думал я, дядя Уиллоуби все еще сидит у себя в библиотеке, добавляет последние, завершающие штрихи к великому труду своей жизни; и чем дольше я думал, тем меньше мне все это нравилось. Шансов на успех у меня было на глазок примерно два к трем, и когда я пытался представить себе, что будет в случае провала, по спине у меня бежали холодные мурашки. Дядя Уиллоуби был вообще-то нрава довольно мягкого, но мне приходилось наблюдать его и в гневе, и, клянусь Юпитером, если он застанет меня за кражей своего драгоценного манускрипта, его ярости не будет предела.
Время уже приближалось к четырем, когда он наконец пришкандыбал из библиотеки с пакетом под мышкой, положил его на стол и прошкандыбал прочь. Я в это время держался к юго-востоку, притаившись позади пустых лат на постаменте. Только он скрылся, я шасть к столу. Схватил пакет и вприпрыжку наверх, прятать добычу. Влетаю к себе, как молодой мустанг-иноходец, и натыкаюсь прямо на бойскаута Эдвина. Чертов мальчишка стоял у комода и копался в моих галстуках.
— Привет, — говорит он мне.
— Ты что здесь делаешь?
— Навожу порядок в вашей комнате. Это будет мое доброе дело за прошлую субботу.
— За прошлую субботу?
— Да, я отстал на пять суток. До вчерашнего вечера было на шесть, но я почистил ваши ботинки.
— Так это ты?..
— Да. Вы уже видели? Как это я раньше не подумал? А сюда вот зашел посмотреть — здесь, пока вас не было, жил мистер Беркли, сегодня только уехал, и я подумал, может, он что-нибудь забыл, а я найду и пошлю ему вдогонку. Я таким способом уже сделал не одно доброе дело.
— Благодетель ты наш.
Мне становилось все более и более ясно, что этого инфернального ребенка надо отсюда удалить, и как можно скорее. Я держал пакет за спиной, и можно было надеяться, что он его пока не заметил; но теперь надо было прорваться к комоду и быстренько спрятать украденное в ящик, пока никто не вошел.
— Бог с ней, с уборкой, можешь идти, — сказал я ему.
— А я люблю наводить порядок. Правда-правда. Мне это нисколько не трудно.
— Тут уже все в полном порядке.
— Погодите, увидите, как будет, когда я кончу свою работу.