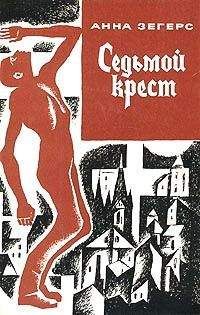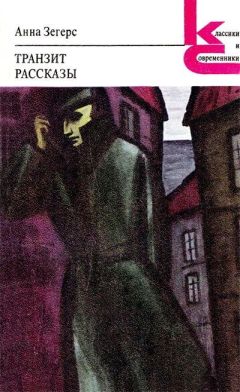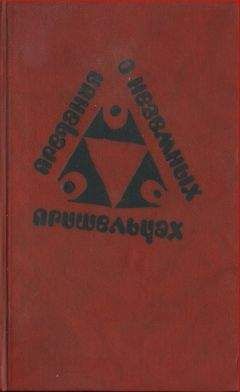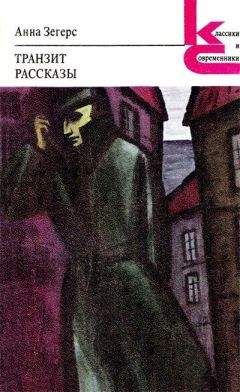Анна Зегерс - Седьмой крест. Рассказы
Со школьных дней меня больше никто не звал этим именем. За многие годы я привыкла ко всяческим именам, какими меня называли друзья и враги, какими меня окликали на улицах, наделяли на празднествах и собраниях, ночью наедине, на полицейских допросах, на книжных обложках, в газетных статьях, в протоколах и паспортах. Когда я лежала больная, в беспамятстве, как часто я суеверно ждала, что услышу свое прежнее имя. Но оно было утеряно, это имя, которое, как я, обманывая себя, думала, могло сделать меня здоровой, счастливой и юной, могло вернуть мне спутников прежних дней и прежнюю невозвратимо утраченную жизнь. При звуке моего старого имени я от неожиданности, хотя в классе меня постоянно высмеивали за эту привычку, схватилась обеими руками за свои косы. Как удивительно, что я могла вот так ухватить две толстые косы: значит, их не обрезали в больнице!
Пень на котором была укреплена качающаяся доска, был словно окружен плотным облаком, но облако тотчас же поредело, распустилось в сплошных кустах боярышника. Уже засияли отдельные звездочки курослепа в тонком тумане, пробивавшемся от земли сквозь густую и высокую траву. Туман прояснился настолько, что отчетливо вырисовывались одуванчики и полевая герань, а среди них и розовато-коричневые пучки трясунки, трепетавшей от одного только взгляда.
На концах доски, сидя верхом, качались две девушки, две мои лучшие школьные подружки. Лени сильно отталкивалась большими ногами, обутыми в тупоносые ботинки на пуговках. Мне вспомнилось, что она постоянно донашивала ботинки старшего брата. Потом, осенью 1914 года, в самом начале первой мировой войны, брат ее погиб. Я поразилась, как это на ее лице нет даже следа тех грозных событий, которые сгубили ее жизнь. Лицо ее было свежим и гладким, как спелое яблоко, на нем не было ни малейшего шрама, ни намека на побои, которым ее подвергли в гестапо, когда она отказалась дать показания о своем муже. Ее толстая, «моцартовская» коса взлетала над затылком при каждом взмахе качелей. Круглое лицо со сведенными вместе густыми бровями хранило решительное, энергичное выражение, которое с малых лет появлялось у Лени, когда она была занята каким-нибудь трудным делом. И эту морщинку на лбу я знала. Я всегда замечала ее на сияюще-гладком, как яблоко, круглом лице в тех случаях, когда мы азартно играли в мяч, состязались в плавании, писали классные сочинения, а позже на бурных собраниях и когда раздавали листовки. В последний раз я видела у нее эту складочку между бровями уже в гитлеровское время, когда в родном городе, незадолго до моего окончательного бегства, я напоследок встретилась с друзьями. И еще прежде прорезала лоб ей морщинка, когда ее муж не явился к условленному часу в условленное место, из чего стало ясно, что он схвачен нацистами в подпольной типографии. И конечно, нахмурились брови, сжался рот, когда и сама она вскоре была арестована. Эта резкая линия на лбу, которая раньше появлялась у нее только в особые минуты, отпечаталась навсегда, когда в женском концлагере, во вторую зиму этой войны, ее медленно, но верно убивали голодом. Удивительно, как мог временами исчезать у меня из памяти ее образ — голова, осененная концами широкого банта в «моцартовской» косе, — как могли забыться ее черты, если я твердо знала, что даже смерть не в силах изменить это похожее на яблоко лицо с врезанной в лоб морщинкой.
На другом конце доски, поджав длинные стройные ноги, примостилась Марианна, самая красивая девушка в классе. Она подколола пепельные косы так, что они плоскими кольцами закрывали уши. На ее лице, очерченном благородно и правильно, как лица средневековых женских статуй в Марбургском соборе, нельзя было прочесть ничего, кроме ясности и очарования. В нем не было никаких признаков бессердечности, злой вины или душевной черствости, как не бывает их у цветка. Я сама сразу забыла все, что знала о ней, и радовалась, глядя на нее. Ее стройное худощавое тело с крепкой маленькой грудью под застиранной блузкой зеленого цвета каждый раз вздрагивало, когда она старалась сильнее раскачать доску. Казалось, она сама вот-вот улетит со своей гвоздикой в зубах.
Я узнала голос пожилой учительницы, фрейлейн Меес, — она искала нас за низкой стеной, отделявшей дворик с качелями от террасы, где пили кофе: «Лени! Марианна! Нетти!» Я больше не хваталась от удивления за косы — ведь учительница не могла окликать меня наряду с другими девочками никаким иным именем. Марианна сбросила ноги с доски и, как только доска накренилась, уперлась покрепче, чтобы Лени было удобно сойти. Потом одной рукой она обняла Лени за шею и заботливо вытащила у нее соломинки из волос. Теперь мне представилось совершенно невозможным все то, что мне рассказывали и писали о них обеих. Раз Марианна так бережно придержала качели для Лени, так дружески и заботливо убрала соломинки из ее волос и даже обвила рукой ее шею, то невозможно, чтобы позднее она так резко, так холодно отказала Лени в товарищеской услуге. Разве бы у нее повернулся язык сказать, что ей нет дела до девушки, когда-то случайно ходившей с ней вместе в один класс? Что каждый пфенниг, потраченный на Лени и ее семью, брошен на ветер, преступно отобран у государства? Гестаповцы, арестовавшие сначала отца, а затем мать, объявили соседям, что оставшийся без призора ребенок Лени должен быть немедленно отдан в национал-социалистский приют. Соседки перехватили девочку на детской площадке и спрятали ее, чтобы потом переправить в Берлин к родственникам отца. Они прибежали занять денег на дорогу у Марианны, которую прежде не раз видели рука об руку с Лени. Но Марианна отказала и еще прибавила, что ее муж — член нацистской партии и занимает высокий пост, а Лени с мужем арестованы поделом, так как совершили преступление против Гитлера. Женщины испугались, как бы на них самих не донесли в гестапо.
Мне вдруг подумалось, что и на детском лице могла появиться морщинка, точь-в-точь как у матери, когда девочку все же забрали в воспитательный дом.
Теперь обе они, Марианна и Лени, из которых одна по вине другой лишилась ребенка, шли из сада с качелями, тесно обнявшись, сблизив головы, так что виски их соприкасались. Мне стало немного грустно. Я почувствовала себя, как это часто случалось в школьные годы, чужой среди общих игр и дружеской близости остальных. Но тут девушки еще раз остановились и взяли меня в середину.
Мы двигались к террасе позади фрейлейн Меес, как три утенка за уткой. Учительница немного хромала; у нее был широкий зад, и все это делало ее еще больше похожей на утку. На груди у нее, в вырезе блузы, висел большой черный крест. Я прятала улыбку, так же как Лени и Марианна. Но веселость, вызванная ее комическим видом, умерилась чувством почтения, несовместным с насмешкой: даже когда Исповеднической церкви запретили богослужение,{8} она по-прежнему, ничего не боясь, ходила повсюду с этим массивным черным крестом на груди, вместо того чтобы заменить его свастикой.
Терраса на берегу Рейна была обсажена кустами роз. По сравнению с девушками они выглядели такими правильными, прямыми, заботливо ухоженными, словно садовые цветы рядом с полевыми. Сквозь запах воды и растений пробивался манящий запах кофе. Над столиками, накрытыми скатертями в белую и красную клетку, перед длинным и низким зданием ресторана звенели юные голоса, будто жужжал пчелиный рой. Меня потянуло поближе к воде. Захотелось вдохнуть необъятный простор этого солнечного края. Я потащила за собой Лени и Марианну к садовой ограде, и здесь мы стали смотреть на реку, которая текла мимо дома, голубовато-серая, сверкающая. Холмы и деревни на том берегу с лесами и пашнями отражались в воде, покрытой сетью солнечных бликов. Чем дольше оглядывала я все вокруг, тем свободнее становилось дышать, тем сильней наполнялось радостью сердце. Почти неприметно исчезал остаток уныния, отягчавшего каждый мой вздох. При одном только взгляде на милый холмистый край грусть отступала, и вместо нее в самой крови рождались жизнерадостность и веселье. Так всходит зерно в родной почве, под родным небом.
Голландский пароход, за которым цепью тянулись восемь барж, скользил по холмам, отраженным в воде. Они везли лес. Жена шкипера подметала палубу, а ее собачонка приплясывала вокруг хозяйки. Мы, девушки, подождали, пока не пропал белый след, тянувшийся за караваном барж, и на воде уже ничего больше не было видно, кроме отражения противоположного берега, сливавшегося с отражением сада на нашей стороне. Мы возвратились к кофейным столикам; впереди нас шла, покачиваясь, фрейлейн Меес со своим крестом, тоже качавшимся у нее на груди, но она теперь не казалась мне потешной. Крест вдруг стал полным значения символом, непоколебимым и торжественным.
Может быть, среди школьниц и были угрюмые неряхи, но теперь в своих пестрых летних платьях, с прыгающими косами или веселыми «крендельками», подколотыми на висках, все они выглядели цветущими, нарядными. Большинство мест было занято, поэтому Марианна и Лени уселись на одном стуле и поделились чашкою кофе. Маленькая Нора, со вздернутым носиком, тоненьким голоском, двумя косами, обвитыми вокруг головы, одетая в клетчатое платьице, с такой важностью разливала кофе и раздавала сахар, будто она была здесь хозяйкой. Марианна, которая после и думать забыла о прежних своих одноклассницах, отчетливо вспомнила эту прогулку, когда Нора, возглавившая нацистский Союз женщин, приветствовала в нем как нового члена свою школьную товарку Марианну.