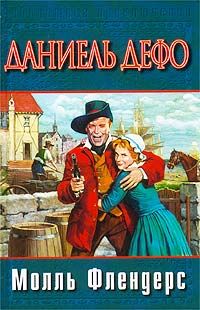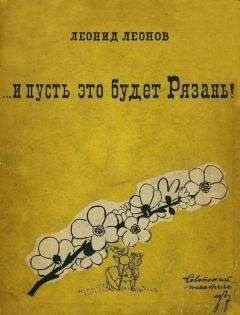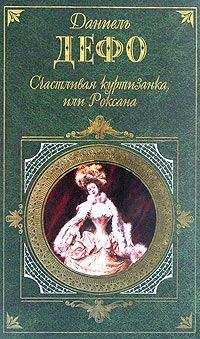Леонид Леонов - Вор
— Не уловлю никак, чем именно, а только… до чего ж, характерно, похожи вы на старикашку, сожителя моего, Дмитрий Егорыч, — вскользь закинул он словечко после порицания наступившей жаре. — Неужели самому в глаза вам сходство не бросилось? В наше время разве только у Клавди вот встретишь такое ангельское незнание…
— Спать хочу, ступай прочь! — махнул ему Векшин, тотчас забыв свою просьбу о чернилах, и, повалившись на койку, утомленно закрыл глаза.
Намерение написать отцу пришло в голову лишь теперь, — утром он собирался просто напомнить старику о себе посылкой денег. Самое намерение возникло у Векшина еще на тюремных нарах, когда разум мучительно искал лазейки из сгущавшихся кругом сумерек. Его неотступно преследовало чувство, словно, до одышки загнанный, дорогою ценою ускользнув от погони и забившись в угол огромного пустого сарая, уставился он на недоступный для него полдень в квадратном проеме ворот. Это естественное для волка томительное одиночество Фирсов высокопарно приравнивал к поэтической тоске, с которой при взгляде в ночное небо угадываешь там свою отдаленную родину.
«Здравствуй, отец… и не рви мою бумагу прежде, чем дочитаешь до конца, — вилась в уме Векшина воображаемая строчка. — Конечно, легче было бы нам обоим, кабы давно сгнил твой Митька в братской яме, где люди не чета ему легли. Казалось бы, не из тех я, отец, кого слишком баловали смолоду, прощали, одаряли, чем могли… с того и ожесточился я. Не щадила меня жизнь кроткого, тем более не пожалела обозленного. Подумать жутко: в каких сечах ни бывал, не подранили ни разу, — видать, чтоб хлеще получилось впоследствии. Вот я и оступился на черной злости своей! Но ты раньше сроку не кляни сына, Егор Векшин, когда достигнет тебя его худая слава. Не оттого молчал он столько лет, что показаться было не в чем, а потому, что не закончена пока его биография: не отрублены пока его руки, и помнит он до гроба твое наставление о глиняных ногах. Дай сыну, посильный срок…» Пропустив через память заученные строки письма, Векшин с утомлением обнаружил в них фальшивую заискивающую торжественность, тогда как, по Пчхову, туда надлежало являться в рубище молчанья, с пеплом самоосуждения на голове.
Векшин приоткрыл глаза от легчайшего прикосновения к колену. Рядом, едва не задевая дыханьем, в лицо ему заглядывал Петр Горбидоныч. И такой был упадок сил у Векшина, что нечем стало отогнать Чикилева.
— Так и знал, что замечтались только, а не спите, — шепотом, чтоб не разбудить Клавдю, заговорил он. — Тут и сам я, на вас глядя, в размышленья впал…
— В какие же это ты впал размышления? — вяло повернулся к нему Векшин, так как разговор временно избавлял его от мучительных попыток облечь в точное слово свою вину.
— Да уж разные там, потом скажу… — извернулся Петр Горбидоныч, смелее присаживаясь возле и заманивая на крупный разговор. — Характерно, мне бы ненавидеть вас, поскольку и вы в числе прочих наблюдали недавнее мое столкновение с сочинителем и втайне, очень вероятно, насладились моим униженьем… а я, напротив, мириться с вами иду! Причем, заметьте, незаслуженно пострадал от его руки, так как имел абсолютное право поинтересоваться указанной тетрадкой и как квартирный сожитель, и как преддомком, и как стенной газеты редактор, и как гражданин, беззаветно преданный интересам ближайшего будущего… да, в конце концов, и по самой должностной отрасли своей. Нищенство, помимо своей общественной безнравственности, представляет собой злостный нетрудовой источник дохода и в качестве такового подлежит обложению по наивысшей шкале… так? Кроме того, что может составлять предмет писаний неполноценной в социальном смысле личности? Исключительно клевета на современность! Вы спросите, откуда мог я с подобной глубиной проникнуть в частный секрет? Отвечаю: путем переноса на себя. Вы только вообразите себя на месте ущемленного хищника и тотчас получите ключи ко всем неразрешенностям враждебного нам мира… вы следите за моей мыслью? И вот, к примеру, всякий гений есть крайне антисоциальное явление, направленное к моральному принижению трудящегося большинства… и, по секрету сказать, будь я действительно директором земного шара, уж я бы отыскал ему хозяйственно-целевое применение!.. тем не менее сам я нередко просыпаюсь в холодном поту от мысли, а что, если ты, Петр Горбидоныч Чикилев, и есть высший, только сокрытый пока, гений? И тогда я целый день слоняюсь, как сонный, на службе, как мне в таком случае с собою поступить? Оно, с одной стороны, будто и так, зато с другой-то этак! и в чем же она, гениальность моя? Открываюсь: для меня любое житейское обстоятельство есть как бы яйцо, и, характерно, еще никто в целом свете не догадывается, что из него выведется, а я не только наперед проник, ровно в желток ему глядел, а уже и принял предупредительные меры. Да если только правильно дело поставить, у меня бы никаких событий я истории и происшествий не случалось бы, а получился бы сплошной проспект прогресса!
На данном этапе для меня, заметьте, уж ни в чем загадок нет. Мне и во сне чаще всего, заметьте, представляются не какие-либо буржуазные красавицы, скажем, в запретных позах, не находка саквояжа с биржевыми акциями в пустынном закоулке, как другим, а будто полная тишина, и я разбираю на части разные хитроумные машинки… не только нынешние, а и которые через тыщу лет появятся. Разберу, опровергну, что следует, и на полочку положу. И, обратите внимание, в чем сила моего изобретения, Дмитрий Егорыч? А в том, что на все винтики у меня одна и та же заветная отверточка, и, таким образом, каждому это занятие доступно на основе даже заочного самообразования и без лишних затрат. Спросите меня, что же это такая за отверточка? Искренне отвечаю: стремление к наивысшему благу, чтобы все вокруг меня стало еще лучше, круглее, так сказать, симпатичнее. И такой характер у меня, что, как только дома у себя порядок наведу, тотчас принимаюсь за окружающие улицы и так далее, вплоть до вселенной, где также немало еще пока замечается беспорядка! — Так он болтал, болтал, но вдруг взглянул на часы и ужаснулся: полночь близилась, а он и половины еще не достиг намеченного плана. — Эх, жалко, времени нет, а то я бы вам пополнее приоткрыл мою теорию… Словом, вы меня, Дмитрий Егорыч, не остерегайтесь, а смело идите ко мне все навстречу и навстречу. Я, характерно, зла никому и нисколько не хочу, а только стремлюсь упростить всеобщую жизнь посредством приложения жгучей правды! А ведь это и есть счастье…
— Так чем же ты меня осчастливить собрался? — сквозь нолудремоту спросил наконец Векшин, зевая и потягиваясь. — Кончай, а то спать хочу…
— Сколько я ни искал, так и не довелось мне ознакомиться с полным жизнеописанием вашим, Дмитрий Егорыч. Именно поэтому я и спрошу у вас кой о чем сперва, а потом и сам косвенным образом отвечу путем указания на ряд примечательнейших совпадений! — начал было Петр Горбидоныч ж осекся.
То самое, чего недавно не удалось достигнуть через векшинскую сестру, теперь представлялось совершить непосредственно. Затея, видимо, состояла не только в том, чтобы лишить Векшина его ложноромантического ореола в глазах Балуевой, но и обессилить его самого развенчанием в собственных глазах. Петру Горбидонычу оставалось капнуть заразкой на достаточно подготовленную почву, а дальше сомнение само в такие глубинки просочится, куда стальному буру не пролезть. Полудремотное состояние противника и некоторая расслабленность почти обеспечивали успех дела; все же из предосторожности Петр Горбидоныч поотодвинулся на расстояние чуть подальше векшинской руки.
— Рубанул по живому, так уж напрочь отрубай… — лениво подтолкнул Векшин.
— Сколько мне известно, ведь родились вы на Куд-ме, по соседству с имением нашего общего друга Сергея Аммоныча Манюкина…
— Как же, Водянец! — усильем памяти припомнил Векшин и приподнялся на локте. — А ведь я и не знал, что оно было манюкинское…
— Как же, в том-то и горе, — оживился Петр Горбидоныч, глазами и жестом выражая сочувствие, — что заинтересованные лица все узнают в последнюю очередь. Да вы одолжите у него самого скрытую его тетрадочку хоть на денек, по родству, и не такое еще раскопаете! Лично мне хотелось бы пока проверить правильность некоторых помещенных в ней сведений… может, и клевета? Ведь ваш батюшка, характерно, довольно хворого здоровья был?
— Он с японской войны жестокую грыжу домой принес, очень ею маялся… а что?
— Точно! — воскликнул Петр Горбидоныч. — А не помните, не лежал ли он одно время в роговской больничке? Достойная же матушка ваша, чрезвычайно красивая женщина, по свидетельству того же Манюкина, жертвуя всем для семейного блага, мыла в тот период полы на Водянце… так? Я сам понимаю, как трудно человеку запомнить такие подробности, случившиеся пусть и незадолго до того, как он приступил к жизни, однако… — Он замялся, мысленно прикинув, во что ему может обойтись ошибка. — Горе в том, что тетрадочка какому-то Николаше адресована, а, характерно, не помечено там нигде, кто таков и сколько годков данному Николаше… хотя я почти не сомневаюсь, что Николаша только псевдоним! Дайте-ка я еще разок прикину для проверки…