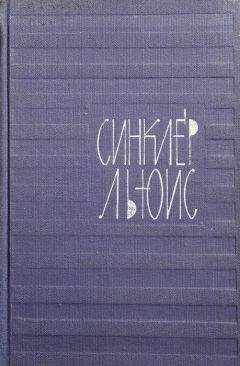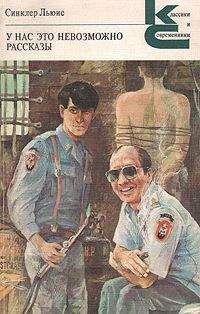Синклер Льюис - Том 5. Энн Виккерс
Энн оглядела зал. Помещение было уродливое и душное; коричневые, довольно грязные оштукатуренные стены; на одной расплылось пятно, напоминавшее очертаниями карту Африки. Единственным украшением служили два пучка золоченых ликторских прутьев над креслом судьи. Но Энн осталась вполне довольна видом зала и бодрой атмосферой.
Она очнулась в момент стычки между судьей Бернардом Доу Долфином и великим мистером Соломоном.
— Суду должно быть как нельзя более очевидно, что вопросы моего глубокоуважаемого противника носят в высшей степени неуместный характер.
— Мистер Соломон, в который раз я должен напоминать вам о том, что вы находитесь не у себя в конторе, а в суде штата Нью-Йорк? Если вы снова соизволите об этом забыть, я не откажу себе в удовольствии оштрафовать вас за неуважение к суду. Прошу вас продолжать, мистер Джексон.
Как он это сказал!
Выходя из здания суда, она подумала, что Барни — уже второй судья в ее жизни. Линдсей Этвелл недавно стал членом Верховного суда Нью-Йорка. Она прочла это сообщение без всякого интереса и теперь уже едва о нем помнила. Линдсей отошел в область смутных снов, забытых и никому не нужных.
Они продолжали видеться каждый день, не исключая и того дня, когда вернулась Мона.
Он должен был встретить ее пароход в одиннадцать утра и отвезти ее на Лонг-Айленд. В три часа дня секретарша Энн, бойкая мисс Фелдермаус, взволнованно влетела к ней в кабинет.
— Ой, доктор, кто приехал) Сам судья Долфнн из Верховного суда!
Барни еще ни разу не заезжал к ней в тюрьму и звонил только в самых крайних случаях, сообщая, как было условлено, что говорит «мистер Бэнистер». Ведь женские тюрьмы ничем не лучше кружков ХАМЖ, аристократических женских колледжей и ресторанов, где встречаются лесбиянки, — та же повышенно чувствительная дружба, та же беспричинная ревность, тот же дух неутолимого любопытства и непрекращающихся сплетен.
— Вот как? Судья Долфин? А доктор Мальвина Уормсер тоже приехала? — безразлично-любезным тоном произнесла Энн, изучая отчет швейной мастерской с ббльшим вниманием, чем он того заслуживал. — Что ж… проводите его ко мне. Он не сказал, по какому делу?
— Добрый день, доктор Виккерс, — сказал он, входя.
Вид у него был хмурый, посеревший. Синий двубортный пиджак, стоячий крахмальный воротничок, аскетически строгий узкий черный галстук. На носу до смешного огромные очки в роговой оправе, в руке трость.
Все-таки он удивительно хорош в любом варианте — даже вот такой, официально-элегантный и подтянутый; и синий габардиновый костюм сидит на нем почти так же ловко, как старый свитер и замасленные штаны, в которых он щеголял в Виргинии.
Мисс Фелдермаус, сгорая от любопытства, вертелась в кабинете; Энн нетерпеливым жестом отправила ее за дверь.
Барни поспешно поцеловал ее, а она пробормотала:
— Ты с ума сошел, — и тут же поцеловала его сама.
— Я не выдержал, — сказал он. — Мона. Я решил держаться сердечно и даже нежно. Но едва она ступила на пристань, она посмотрела мне в глаза со своим знаменитым всепрощающим видом и сказала — о боже!_______________________________________ сказала таким вежливым голосом: «Надеюсь, я не очень огорчила тебя тем, что вернулась так быстро». Я объявил ей, что мне пора в суд, и примчался сюда. Я уже бегу. Просто мне захотелось повидать тебя на минутку — вот просто так, глотнуть один глоток и уйти. Пообедаем в шесть? Да брось все это! Договорились: в шесть, у Бреворта, а потом, с божьей помощью, я отправлюсь на Лонг-Айленд питаться колотым льдом!
И вот он уже открывает дверь и с порога громко говорит, чтобы слышали все насторожившиеся уши:
— Поверьте, мне очень тяжело было выносить ей такой приговор. Но я убежден, что вы здесь сделаете из нее человека. Очень жаль, что я сейчас не имею времени осмотреть тюрьму. Всего хорошего, доктор Виккерс.
И вот его уже нет.
Энн рассмеялась, вспоминая его очки; рассмеялась от радости, что он остался здесь: ведь теперь ее кабинет всегда будет наполнен его присутствием. А потом ей захотелось заплакать — над трагедией Безупречной женщины, которую бог покарал, послав ей рыжебородого супруга; над трагедией этого рыжебородого супруга, который страдает оттого, что женат на такой безгрешной, великодушной, сдержанной и безнадежно глупой женщине; и над трагедией Энн Виккерс, которая в любую минуту при столкновении этих противоборствующих сил рискует оказаться раздавленной-и жалобный визг Рассела Сполдинга только усугубит ее смертные муки…
Три с половиной недели спустя у нее появились основания предположить, что она ждет ребенка.
ГЛАВА XL
Теперь она твердо решила рожать. Мысль о том, чтобы еще раз убить Прайд, даже не приходила ей в голову. Может быть, потому, что на этот раз должно было выйти в свет солидное, надежное издание Прайд под редакцией Барни — не жиденький томик в дешевом переплете, который мог бы появиться при участии Лейфа Резника; может быть, потому, что теперь, сознавая собственное малодушие, она могла предъявить миру в качестве законного отца беднягу Рассела, тогда как в прошлый раз у нее не было мужа, чтобы заткнуть глотку сплетникам; может быть, потому, что она искренне, примерным образом раскаялась в содеянном убийстве и пришла к мудрому смирению; а может быть, потому, что для нее, сорокалетней женщины, это была последняя возможность иметь ребенка — кто знает! Она не знала и сама. Не исключено, что все четыре причины, осложненные десятком других побуждений, сыграли свою роль. Но Энн не пыталась разграничить их, не ломала над ними голову и не выдумывала для себя позу безупречной добродетели. Она просто ходила, распевая от радости: «У меня будет Прайд! У меня будет дочка! У меня будет дочка от Барни!»
Она выждала еще месяц, чтобы окончательно удостовериться, и только тогда сказала Барни.
Он воскликнул:
— Я страшно рад! Страшно рад! Но, может быть, ты недовольна?
— Что ты! Я так хотела от тебя ребенка.
— Не боишься?
— Ни капельки. Я сильная, как лошадь.
— В таком случае я просто не нахожу слов от восторга! Судьба готовила меня в патриархи. А тебя — в родоначальницы целого племени. Если бы мы с тобой встретились двадцать лет назад, у нас была бы дюжина ребят, отчаянных сорванцов, ферма в тысячу акров и библиотека в семь тысяч томов, и я был бы почти порядочным человеком, а не просто должностной фигурой. Энн! У нас будет малыш!
Этот разговор происходил в ее квартирке. Теперь они все чаще заказывали в ресторане внизу салат и отбивные и обедали вдвоем, не рискуя столкнуться с кем-нибудь из знакомых Моны, когда под взглядами, полными неприязненного любопытства, нужно сохранять равнодушие.
Барни оттолкнул ногой дурацкий ломберный столик, за которым они обедали. Закурил сигару. Энн наблюдала за ним. После приступа бурного энтузиазма он вдруг помрачнел и задумался.
— Энн, выслушай меня внимательно. Это не пустые слова, я говорю совершенно серьезно. Что мешает нам сейчас, когда должен родиться ребенок, смотаться отсюда всем втроем? Мы могли бы уехать куда угодно, на свете столько мест — Париж, Тироль, Алжир, Бали, Девоншир, Куба, — куда угодно! У меня достаточно средств, чтобы содержать две семьи. Дочери выросли. Я им больше не нужен. Так или иначе, они давно заражены лонг-айлендским снобизмом. Обвиняют меня в вульгарности, — разумеется, с полным основанием. Я попытаюсь получить у Моны развод, но даже если она мне его не даст — что за важность? Представь себе: вилла в горах над Ривьерой, завтрак на террасе-и никакого тебе тюремного коридора, никакой грызни со старухой Кист, и к чертям все эти залы суда, где я задыхаюсь, всех этих толстомордых политиканов, которые требуют поблажек! И мы не будем жить как неприкаянные изгнанники. Я когда-то всерьез увлекался филологией и с удовольствием бы к ней вернулся. Через полгода я снова смог бы взяться за Данте и Ариосто.[199] Да и для тебя, девочка, отыскалась бы пропасть интересных дел — ты же у меня невежественна, как кролик, понятия не имеешь ни о живописи, ни о музыке, ни о скульптуре, ни об архитектуре, а там бы ты во все это вгрызлась. И у нашего малыша были бы в жизни какие-нибудь интересы, кроме радио и баскетбола. Я говорю серьезно. Что нам мешает? Лично я в жизни не совершил ничего стоящего, как, впрочем, и ни один судья: все мы жалкие актеры, повторяющие реплики, которые сочинили для нас законодательные органы, — а они как драматурги ниже всякой критики. Ты, может быть, и успела сделать что-нибудь полезное. Воз-мож-но. Но не довольно ли? Неужели ты должна отдать себя без остатка всяким Китти Коньяк? Если бы ты согласилась, я собрался бы в две недели. Ну, как? Скажи «да».
— Барни, я не могу объяснить, что именно нам мешает-просто знаю, что это невозможно, и все тут. Главная причина, наверное, в том, что нам обоим необходима живая деятельность. Мы с тобой не сможем жить без работы, даже если польза от нее мало ощутима. Это только так кажется, что мы удовлетворимся чтением Ариосто, уроками музыки и раскопками на Крите. Ничего подобного! Все это скоро надоест, нас потянет домой, мы станем срывать злость друг на друге — и тогда я потеряю тебя. По-моему, я до сих пор тебе не надоела именно потому, что занята чем-то своим — я сама по себе кто-то, не просто «проклятая баба, которая вечно торчит на глазах». И моя работа мне нравится, да в сущности и ты любишь свое дело, просто ты сейчас нервничаешь из-за этого несчастного расследования. А Китти Коньяк для меня как роман, который я прочла на три четверти. Интересно же узнать, какой будет конец! И, кажется, мне удалось отучить от героина номер 3921 — Салли Свенсон, она же Коган… Ну, в общем, не могу. Давай договоримся встретиться через год — случайно — преднамеренно — и провести месяц в Италии. Но жить там и превращаться в собственную тень — нет, нет! Все равно хорошие тени из нас не получатся: при нашем-то румянце и корпуленции! Милый мой, мне так хотелось бы с тобой уехать! Но я не могу. И ты не сможешь. Ты, с твоей круглой физиономией и рыжей бородой и ужасающей репутацией Казановы, которую я обожаю!