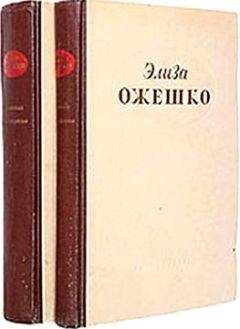Элиза Ожешко - Нерадостная идиллия
А когда он, послушный знакомому и ласковому голосу, слетел и уселся к ней на плечо, она прижала его к груди и, лаская губами его перья, баюкала, как ребенка, шепча:
— Любусь! Ой, Любусь! Нет Владка! Нет!.. Нет!..
Кувшин, полный воды, был так тяжел, что, возвращаясь домой, Марцыся сгибалась под своей ношей чуть не до земли и щеки ее покраснели от натуги. Над нею, то взмывая, то спускаясь пониже, летел голубь. И она время от времени взглядывала на него и улыбалась.
Час спустя Вежбова, нарядившись в свое пестрое шерстяное платье, шаль и белый чепец, отправилась в город; и, как только она ушла, Марцыся широко распахнула одно из окошек хаты, подмела пол огромной метлой, которая была гораздо выше ее, убрала постель, развела огонь и поставила на него горшок с водой и картошкой. На столе стоял недопитый Вежбовой стакан чаю, лежали огрызки булки. На окне Любусь клевал горох и крошки. Управившись со всей домашней работой, к которой ее приучили за этот год, Марцыся вышла в сад, села на грядке и принялась полоть. Любусь вылетел за ней. Работая, девочка часто вздыхала и качала головой. А вокруг чирикали птицы, вдали за рекой шумел город. По временам она поднимала голову и смотрела в ту сторону. Казалось, она напряженно вслушивается в долетавший оттуда шум. Уж не пыталась ли она среди тысячи голосов различить голос друга?..
С того дня на улицах города больше никогда не появлялась босая девчонка, просившая здесь раньше милостыню. По приказу Вежбовой Марцыся теперь ходила на поденку. Рано утром, еще до солнца, она носила воду из родника в дома состоятельных жителей пригорода. Потом полола огороды, чистила дорожки, помогала прачкам полоскать белье в реке, сбирала в овраге барбарис и шиповник, а в поле разные полезные травы и продавала все это на базаре или носила в аптеки. Все заработанные деньги она отдавала старухе, которая, с тех пор как Марцыся начала на нее работать, обращалась с ней поласковее, но все-таки частенько попрекала ее, говоря, что держит ее из милости, что мать ее давно забыла свои обещания и денег не шлет.
В самом деле, Эльжбета только первые несколько месяцев посылала Вежбовой обещанные деньги и письма на серой бумаге, написанные кем-то по ее просьбе, так как она не умела писать. В письмах она осведомлялась о Марцысе: жива ли и здорова, хорошо ли себя ведет. Потом деньги и письма приходили все реже, а на втором году жизни Марцыси у Вежбовой и вовсе перестали приходить.
— Либо померла, либо совсем уже спилась, — говорила Вежбова Марцысе. — А вернее всего — и то и другое. Допилась до белой горячки и померла где-нибудь под забором или в корчме под столом.
Такие безжалостные предположения насчет матери как будто и мало трогали Марцысю. Со дня ухода Владка она стала еще молчаливее, тише и покорнее. Работала, ни с кем не разговаривая. Когда речь заходила об исчезновении матери, лицо ее не становилось печальнее. И только в те дни, когда Вежбова особенно усердно распространялась об этом, Марцыся, укладываясь спать на своем обычном месте — на сеннике под печкой, громко вздыхала. Вспоминались ли ей те редкие вечера, когда мать брала ее на руки, укладывала на свою убогую постель и, сев подле нее, убаюкивала песнями и сказками, штопая свои лохмотья? Казалось, чем дальше в прошлое отодвигался день разлуки с матерью, тем сильнее Марцыся, лишившись не только матери, но и неизменного товарища своего детства, чувствовала свое одиночество и сиротство, тем чаше вспоминала мать и тем светлее и привлекательнее становился в памяти ее образ. Какие мечты и думы будило в голове девочки воспоминание о ее кроткой и печальной улыбке, о почти всегда потупленных глазах, какая боль и тоска сжимали при этом ее сердце, — трудно было угадать другим, да и сама Марцыся не сумела бы рассказать об этом. Но иногда, когда ни в хате, ни вблизи ее не было никого и глубокую тишину нарушал только отдаленный шум города да изредка чириканье воробьев под стрехой, когда в глубине оврага шелестели старые ивы, а за оврагом, в золотившихся полях, слышался по временам протяжный крик пахаря или смех веселой жницы, — одинокая девочка, сидя на рыхлой земле в огороде и вырывая из грядки колючие сорняки, поднимала голову и, печальным, тусклым взглядом следя за гулявшим по крыше голубем, заводила одну из незабытых еще песен, которые певала ее мать:
Горлица над озером летала,
Уронила в воду перышко…
Мать ушла далёко и пропала,
Мне одной на свете мыкать горюшко…
Она нагибалась еще ниже к грядке, полола быстрее и старательнее, но проходил час-другой, и снова опускались руки, снова заглядывалась она на голубя и напевала:
Скучно перышку на речке
Одному кружить,
Тяжко мне в чужом дому
Горьки слезы лить.
Нет, слез Марцыся не лила. Терпеливая, тихая и замкнутая, она сторонилась шумливых и веселых ровесниц, а, встречая мальчишек, всегда допытывалась, не видали ли Владка. В первое время Владек довольно часто навещал ее.
Он пришел в первое же воскресенье после своего ухода. Марцыся увидела его еще издали и бросилась к нему навстречу, как шальная.
— Старухи нет? — спросил Владек.
— Нет, нет! В костел ушла.
— Это хорошо. Посидим с тобой здесь.
Он сел на скате холма, по которому шла тропка в предместье, и, выставив на солнце свои новые ботинки, чтобы они ярче блестели, начал рассказывать Марцысе все, что видел и слышал за эту неделю.
— Те золотые окна, на которые ты всегда глаза пялила, называются зеркала, — говорил он. — Они такие большие, что в них видишь себя с ног до головы… А тот большущий стол, на котором катают костяные шары, это — бильярд.
— А для чего он, этот бильярд? — спросила Марцыся.
Он стал объяснять ей, в чем состоит игра, хотя и сам еще не очень-то разбирался в ней. Одно он знал: кто умеет ловко подгонять палкой эти шары, может выиграть много денег.
— Я присмотрюсь и научусь. А тогда выиграю кучу денег и буду богат.
— Дядя не позволит тебе портить стол, — возразила Марцыся.
— А я и просить не стану! На Низкой улице есть одно такое заведение, где играют все, кто хочет. И Франек там играет, он уже научился… Счастливец этот Франек! Везде он поспевает раньше меня… Правда, он и старше, да и отец его у панов служит и лучше его воспитывал, чем эта старая ведьма меня…
— А если бы ты знала, — продолжал Владек, — как в тех красных креслах удобно сидеть!.. Мягко! Вчера, когда гости разошлись, я сел в кресло и выспался, как на кровати.
По всему видно было, что Владек доволен новой жизнью и полон неясных, но пылких надежд и желаний. Придя к Марцысе в следующий раз — через несколько недель, — он, занятый своими мыслями, сказал девочке:
— Добиваются же люди… добьюсь и я! Я уже умею ловко подавать гостям мороженое и шоколад, и дядя скоро переведет меня в маркеры.
— А что это — маркер?
— Маркер — это тот мальчик, что стоит у бильярда и считает, сколько кто проиграл и выиграл. И я буду стоять и присматриваться, как играют, пока не научусь.
Он жаловался только на дядину жену: она его часто бранит, заставляет нянчить ее крикливых детей, а к чаю дает хлеб без масла.
— Ну, да это пустяки. Все-таки житье райское, если сравнить с тем, как я раньше жил. И еда хорошая, и сплю на хорошей постели, и помаленьку учусь, как в люди выходят. Ты бы рот разинула, если бы слышала, о чем наши посетители толкуют между собой! Ничего бы ты не поняла. И я сперва не понимал. Ну, угадай, о чем они больше всего говорят?
— О чем же?
— О деньгах! — ответил Владек с важностью. — Да, да, на деньгах свет стоит! У кого нет ни гроша, тот ни гроша не стоит. А у кого денежки есть — гуляй, душа! Все будешь иметь за деньги: и сапоги, и пиджак, и жратву, и всякие удовольствия.
Он встал, выпрямился и, указывая пальцем на белый дом садовника у самой реки, на краю города, сказал:
— Вот если бы стать таким богатым, как садовник! Франек нанялся к нему огород копать. Он говорит, что садовник хранит свои деньги в сундуке на чердаке.
Марцыся не дала ему договорить.
— Гляди! Гляди, Владек! — воскликнула она, указывая пальцем на что-то в воздухе.
Это Любусь возвращался домой издалека. Он камнем упал вниз и уселся на плече Марцыси. А она взяла его в руки и протянула Владку.
— Какой он ласковый, — сказала она. — Знаешь, он повсюду за мной летает.
Но мальчик не обращал внимания ни на нее, ни на голубя. Его горящие глаза под желтыми бровями были прикованы к городским домам, словно он искал чего-то там, среди них, и беглая усмешка по временам мелькала на его губах.
— Ну, адью! — крикнул он неожиданно и, даже не посмотрев на Марцысю, сидевшую с голубем в руках, побежал по направлению к городу.
Прошла осень, зима. Владек приходил все реже.
В доме Вежбовой зимние вечера всегда проходили довольно шумно. У старухи были обширные знакомства среди городской прислуги, к ней ходило множество людей — кто для того, чтобы при ее посредничестве найти место, кто занять денег под проценты или просто поболтать и выпить в веселой компании. Вежбова эти «гулянки» и беседы поощряла, — они привлекали людей, которых она ловила в свои сети, как паук ловит мух, чтобы ими кормиться. Говорили, что старая Вежбова копит деньги. Во всяком случае достоверно было то, что она уже купила домик, в котором жила, и примыкавший к нему сад. А в редкие минуты откровенности она рассказывала, что мечтает купить один каменный дом, белые стены которого возносились над низенькими серыми домишками предместья.