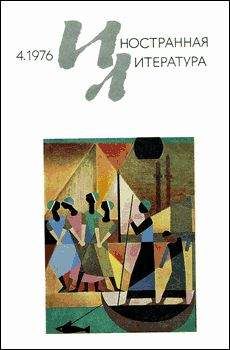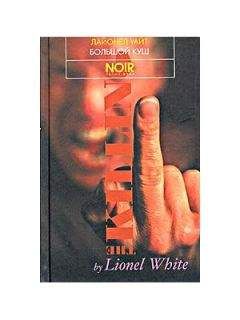Патрик Уайт - Женская рука
— Нет. Почему? — сказал Даусон. — Никаких оснований опасаться. Люди обычно возвращаются, даже когда думаешь, что они не вернутся.
Наверно, это джин виноват в ее мрачных мыслях. Обычно такое в голову не приходит, есть чем отвлечься.
— Вы не понимаете, что для меня Хэролд, — сказала она. — Хотя вы-то можете разговаривать с ним или не разговаривать и все равно додуматься до чего-то, в чем мне вовек не разобраться.
У Даусона вид был озадаченный, бестолковый.
— Как так? — сказал он.
Ивлин предложила пройтись. Это здоровее, чем сидеть и пить и вынашивать мрачные мысли об автомобильных авариях и о браке.
— Да мы ведь о браке не говорили, — заметил Даусон.
Вот такой он был человек.
Ну и пошли они шагать во тьме. Волшебный слайд нильской дельты уже убран, но запах ее остался — пахло увядшим клевером и тлеющим навозом. Когда Ивлин только приехала в Египет, ей объяснили, что жгут навоз, это тоже ее возмутило, как многое другое. Но при постоянном кочевье, каким была и остается жизнь любого иностранца в Египте, постепенно стало даже утешать. Сегодня вечером и звезды светят — вначале она часто смотрела на них, а потом привыкла, что здесь они всегда видны.
— Разве мы не говорили о браке? — продолжала Ивлин и в темноте обо что-то споткнулась. — Мне казалось, мы, в сущности, все время об этом говорим.
В первую минуту лодыжку пронзила боль, Ивлин намеренно захромала, но Даусон не пытался ее поддержать.
— Я этого не понял, миссис Фезэкерли, — сказал он, — хотя, полагаю, эти мысли изрядно вас донимают.
— Значит, вы не были женаты! — выпалила Ивлин.
— Не был, — согласился он.
Интересно, скроет ли тьма, как искривились ее губы, подумала она.
— Говорят, если мужчина к тридцати годам не женат, он либо завзятый эгоист, либо завзятый распутник. Интересно, из каких вы!
По крайней мере стало ясно, что хромать незачем.
— Женатые ли, одинокие ли, почти все мужчины в меру эгоистичны и в меру распутны, — сказал Даусон.
— Но вы не хотите понять! — воскликнула Ивлин. — Я же говорю о холостяках, они не знают меры.
— Не понимаю, почему это вас так занимает, миссис Фезэкерли, — был ответ. — Ведь у вас есть то, что вам надо.
— Ох, знаю! Знаю!
В темноте она ударилась лицом о манговое дерево. И ее захлестнули листья и собственные возгласы досады.
— Но мы ведь разговариваем, чтобы поднять настроение, разве нет? — упорствовала она. — И чтобы понять друг друга. Почему я вас не понимаю?
— На это я не могу ответить. Если нам суждено понять человека, мы его поймем.
В ярком свете звезд Ивлин неплохо различала лицо Даусона, но ничего не могла по нему прочесть. И это было страшно.
— Мне кажется, вы ничего не страшитесь, — сказала она. — Это само по себе устрашает любого, кому страшно.
— Что же вам страшно? — спросил он.
— Почти все. Жить в этой стране. — Мысли ее закружились в беспорядке. — Произношение англичан. Скорпионы — Она ухватилась за скорпионов. — Даже сейчас, после стольких лет в Египте, я дрожу — вдруг забудусь и, не глядя, суну ногу в туфлю, а там скорпион.
Неожиданно для себя она уцепилась за мускулистую руку Даусона. И показалось — впервые в жизни она коснулась мужчины, ее потянуло к нему, повлекло, ближе, ближе, к более глубинному ощущению ночи и ужаса. Страшные и пугающие сами по себе, скорпионы оказались необходимы для начала. Так же, как топорное, неуклюжее тело Даусона могло служить свидетельством некоего унижения, к которому в трезвые мгновенья она будет мысленно возвращаться во хмелю угрызений совести.
Они вышли на край плантации, где в зеленовато-серебряном свете текла черная вода и громкие голоса арабов рассекали кубы деревенских домов. Только Даусон оставался неподатливым.
— И обнаружили вы хоть одного? — спросил он.
— Кого? — выдохнула Ивлин.
— Скорпиона.
Он засмеялся как мальчишка. Свободной рукой он обхватил ствол молодого мангового дерева.
— Нет, — сказала она. — Но ждать этого все равно страшно.
Хотя за долгие световые годы их странствия она в согласии с правилами, которые каким-то образом узнала, прильнула к нему, прилепилась, оба, как ни странно, словно оставались бесплотными. Не ощути Ивлин в этом неподатливом теле едва уловимую дрожь, можно бы подумать, что душа его с ним рассталась.
— Еще даже не надев туфлю, вы ожидаете смерти, верно? — продолжал болтать Даусон. — Нет, бросьте об этом думать. Не то и жить не под силу.
— Ну да, я глупая, знаю! Такая моя судьба, надо, чтоб мне вечно об этом напоминали!
Судорожно подавляя трепет пробудившейся плоти, она сдавала позиции.
— Знаю! — задыхаясь, повторяла она.
В зеленой египетской ночи она стояла подле Даусона и плакала. Сейчас, когда от вожделения, да и не вожделение это было, остался лишь беспокойный отзвук в памяти, будто покалывал жесткий волос, она жаждала одного — хоть бы Даусон поверил, есть в ней что-то, не совсем она пустоцвет.
— Простите. — Она слушала себя из далекого далека. — Я сама не своя от горя. Из-за нашего малыша. Вы ведь знаете, мы потеряли ребенка.
— Нет! — воскликнул Даусон, безмерно пораженный.
И с такой печалью он теперь смотрел на нее.
— Упал в канал. — Она уже беспомощно всхлипывала. — Вот оно как, мистер Даусон. Вы ведь поймете?
Ее по-прежнему захлестывало желание обнять большую щетинистую голову младенца. Младенца, который для нее потерян.
— Сколько лет было малышу?
Она чуть не расхохоталась, спасибо, с самого начала взяла такой серьезно-торжественный тон. В полных сочувствия глазах Даусона мерцали зеленые отсветы.
— Пять, — подсчитала Ивлин.
Но он не заметил, что вытянул это из нее, и на миг она завладела его тупыми потными пальцами, хоть они уже не так ей были и нужны, даже противны стали, и сама себе она стала противна.
— Смотрите никогда ни слова об этом Хэролду, — сказала она, припоминая, как надо командовать. — Он в таком горе, не передать, — торопливо продолжала она. — Мы никогда об этом не говорим.
Чудак Даусон все еще испуганно таращил глаза, а ее все еще мучила собственная лживость.
Вскоре на длинной прямой дороге сверкнули приближающиеся фары.
— Ивлин, милая, прости, — сказал Хэролд. — Нет у меня никаких оправданий. Просто опоздал.
Она даже не почувствовала обиды.
— Мы уже начали беспокоиться, — сказал Даусон.
— Почему? — спросил Хэролд.
Никто не нашелся что ответить.
— Не беда, — сказала Ивлин. — Вот только обед. Ну, я за него не в ответе.
Смахнув с волос паука, она пошла в дом привести в порядок лицо.
Утром Хэролд подошел к Ивлин и сказал:
— Даусон решил вернуться в Александрию. Хочет заказать машину. Но я сказал, что сам его отвезу.
— Вот как? — сказала она. — Странный человек! У него же остается несколько свободных дней.
— Возможно, он еще хочет побыть со своим другом, прежде чем отправиться в Порт-Саид, на корабль.
Когда Ивлин вышла к машине, Даусон старался заново запереть один из замков своего чемодана.
— Мне ужасно жаль, что вам надо так спешить, — начала она. — Но я понимаю, вам хочется до отъезда побыть еще немного с профессором Прото. Мне всегда будет казаться, у него против меня зуб, оттого что нельзя было пригласить и его тоже.
Когда тебя это уже ни к чему не обязывает, легче говорить искренне.
Даусона, верно, озадачило, что замок его дешевого чемодана явно сломан. Он все мудрил над заржавевшей защелкой.
— Побыть с Протосингелопулосом? — сказал он. — Я думаю, он уже уехал в Грецию.
— Но Хэролд сказал…
Хэролд звал араба, чтобы тот протер ветровое стекло машины. Он стоял к ним спиной. Кто знает, уловил ли он обрывок разговора между нею и другом. Вечно он поглощен уходом за машиной. Или хлопком. Или, надо признать, тут она ощутила укол совести, женой.
А Даусон ничуть не озадачен, поняла она. Смотрит в сторону, скрывая то, что понял, и уедет, увозя с собой ее тайну. К счастью, он слишком туп или слишком честен, чтобы тайной воспользоваться.
— До свидания, мистер Даусон, — сказала она. — Надеюсь, вы скоро совсем окрепнете.
Он странно засмеялся и, глядя на свои ножищи, ответил:
— Я вовсе не чувствовал себя больным. Ничего такого не замечал. Просто мне сказали, что я болен.
Потом Хэролд повез своего друга, свою обузу, прочь. Даусон помахал или просто поднял короткопалую руку. Хэролд тоже помахал в знак, что скоро они будут вместе и одни, без помех; а она смотрела на Хэролда. Ей случалось ловить себя на мысли — вот бы Хэролд серьезно заболел, тогда можно будет доказать свою преданность ему, скрытую за ее манерой держаться. Представлялось — он лежит под противомоскитной сеткой, в приглушенном свете виден его изможденный, восковой профиль. И она оттягивает, вбирает в себя его жар.