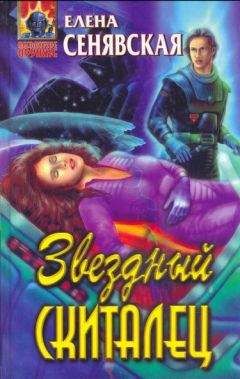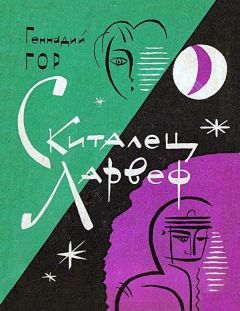Скиталец - Кандалы
— Что?
— Сердце болело всегда… Зачем вы меня бросили?
Елизар вздохнул.
— Думали — лучше тебе будет у бабушки! В Сибири, брат, житье худое!.. вот эдак насильно пошлют туда — за тридевять земель, за лесами, за горами, за болотами — и живи как хочешь!
— Почему насильно? За что? Дедушка сказал — за землю? за какую?
— А ты знаешь Дуброву? бывал там?
— Бывал! на троицу, с девчонками! кукушкины слезки искать!
— Ну вот! Хорошо там? Любишь Дуброву?
— Люблю!
— А ее купец у нашей деревни отнял и живет в ней один! Вот собрались мужики на сход и послали меня в город, хлопотать за Дуброву, потому что грамотный я! а когда воротился весной — помнишь, може, когда медвежатник с медведицей приходил и пожар был?
— Помню! Небо горело!..
— В Кандалах мы тогда жили! Вскорости после этого отправили меня в город, а потом — в Сибирь… Мать пошла добровольно…
— Это когда мы ехали с колокольчиком?
— Помнишь разве? Ямщики Романевы действительно рядом и сейчас живут! По дороге заехали мы сюда и тебя сонного деду и бабушке отдали! А у тебя сердце-то об нас, что ли, говоришь, болело?
— Да! — тихо прошептал Вукол.
— А слышь, — вмешался дед, — слух идет, врут ли, нет ли — не знаю, будто и на Займище наше лесное тоже злятся! Кто-то вроде помещикова наследника! Скажи, пожалуйста, скоро ли у мошенников землю отберут?
Елизар засмеялся.
— Говорю тебе, беспременно отберем, когда все разом двинемся отбирать!
Старик вздохнул.
Бабушка загасила светец, и все затихло в темной избе.
Наконец, все заснули, кроме деда. Убедившись, что все спят, он начал думать, а думал дед по ночам всегда шепотом, молча думать не умел. Чаще всего вышептывалось у него его любимое словечко «мошенник».
— Скоро ли у мошенников землю отберут?
И сам же отвечал себе тихим шепотом:
— Не скоро!..
По стенам шуршали тараканы; днем их не видно было, а ночью выходило целое войско. Казалось, они нашептывали деду зловещее.
Он любил землю и крестьянскую работу, был суров и скуп в расходах, держал семью в черном теле и за это был всеми уважаем в деревне. Откладывал деньги в кубышку, но боже упаси намекнуть о ней деду: рассердится.
Казалось ему, что земля год от года родит хуже, дождей выпадает все меньше и солнце уже не греет летом так сильно, как прежде, когда он был молодой и даже ночью ходил на речку купаться. Земли у мужиков становится в обрез, словно она уходит у них из-под ног. Аренду за казенный участок кулаки повысили во много раз…
Шептал дед о младшем сыне, о внуке:
— Тот хрестьянин, а этот не хрестьянин будет!..
Думал о зяте: больно переменился он от Сибири этой…
В жизни надвигалось откуда-то непонятное. Появились в избах самовары, а у кого и лампы вместо лучины. Девки — франтихи. Начали ситцевые платья носить, туды же и Настька топорщится, а вот честности стало меньше в народе!
— Разоренье будет! Женить надо Яфимку! Женить мошенника!
Затих дед, перестал шептать. Шептали одни тараканы. Таинственные шепоты шуршали во тьме.
Над спящей темной деревней первые петухи пропели. Реяли над ней жуткие сказки, грустные песни и мрачные поверья. До рассвета еще было далеко.
IIIЯфиму усватали невесту на Мещанских Хуторах: там народ жил чисто, на городской манер, и невеста была из зажиточной семьи; расчет склонил деда остановиться на этом выборе, хотя и не любил он хуторских за франтовство и городские замашки.
Сначала поехал туда дед со своею старухой на смотрины. Побывали в гостях у Матвея и родители невесты: серьезный деловой мещанин в долгополом сюртуке, с кудрявыми, в проседи волосами, с благообразной бородой, похожий на торговца или прасола, и приземистая, морщинистая, вострая на язык, лютая старуха.
Тут же за чаем и угощением произошло рукобитье. Только после этого повезли на Хутора Яфима.
Вынули из кладовки парадные костюмы: синего сукна долгополые кафтаны, красные кушаки, мерлушковые шапки и кожаные сапоги с медными подковами. Бабушка надела новый синий сарафан из блестящей материи с позументом и такими же пуговицами в два ряда: от груди до подола. Вынули расшивной головной убор в виде полумесяца, накинули сверху большую турецкую шаль. Дед и Яфим в суконных кафтанах, подпоясанных красными кушаками, в крытых сукном тулупах нараспашку, с широкими воротниками по плечам, в костюмах того покроя, который сохранился в крестьянстве с древних веков, словно превратились в бояр. Дорогие костюмы эти, сшитые еще при дедах и прадедах, сохранявшиеся из рода в род, надевались только в самых торжественных случаях, всего только, может быть, несколько раз в жизни.
Новые большие сани собственной работы с высоким резным задком, много лет стоявшие в амбаре, привезли на двор; запрягли тройку в новую праздничную сбрую с медным набором, с бляхами, бубенчиками и длинными кистями, с крутой, высокой дугой, расписанной пестрыми цветами, по концам окованной медью. Эта сбруя вынималась из кладовки тоже только для парадных случаев.
В корню был Чалка, широкогрудый чалый мерин с белой длинной гривой; на пристяжке — Карюха, тонконогая, с маленькой головой, хорошо ходившая под седлом, и темногнедой Мишка. Хвосты у них у всех завязали толстыми, короткими жгутами, а в гривы вплели алые ленты.
Дед выпустил сивую бороду поверх распахнутого тулупа и сел рядом с бабушкой на заднем сиденье. Яфим — на облучке. Лавр растворил ворота настежь, Яфим натянул вожжи, и тройка выбежала на деревенскую улицу, круто заворотив на раскатанную снежную дорогу и оставив после себя в сугробе глубокий санный след. В окнах соседних изб мелькнули любопытные бабьи лица. Яфим свистнул, передернул вожжами, и тройка, гремя бубенчиками, понеслась серединой широкой улицы.
Кони рвались из упряжи, бубенцы захлебывались под морозным ветром, морозная пыль поднималась столбом. Бабушка закрылась высоким воротником, виднелись только тепло смотревшие глаза. Яфим был, как всегда, молчалив и серьезен, по временам встряхивал вожжи, а дед важно усмехался, утопая в полуаршинной бороде.
Воротились они поздно вечером. Чалка была в мыле, дед — навеселе. Пока Яфим распрягал лошадей и вносил в холодные просторные сени драгоценную сбрую, дед и бабушка переоделись в свое обычное бедное одеяние. На бабушке снова был старый пестрядинный сарафан, дед обулся в онучи и лапти, накинул заплатанный шубняк, надел рваную лохматую шапку и вышел во двор с фонарем задать лошадям корму на ночь. В избе трещала лучина, Настя пряла, Лаврушина русая голова с любопытством посматривала с полатей.
Вошел Яфим, переоделся, подобно отцу, во все старое и молча сел к столу.
Бабушка собирала ужинать.
— Чай, в гостях-то угощали? — лукаво спросила Настя.
— Знамо дело! полон стол был всего: и лапшенник, и молошна яишница, оладьи в меду, курятина… Хорошо живут!.. да и мы не голодны каке́, не больно до еды охочи… чай, не нищи! Все было по уставу! Вывели невесту под фатой. Мы баем: не фату приехали смотреть, а невесту! Тут сняли фату, невеста всем поклонилась по уставу, князю-молодцу в особицу.
Яфим ухмыльнулся.
— Тут, как положено, князя спросили: люба ли княжна молодая? Князь, конешно, тут кланяется молча, а сваты и свахи сказали: люба́!.. А спросите у княжны: люб ли ей князь молодой? Невеста тут поклонялась, ну, значит, люб! Ну, тут уж всё по обряду… Причитывала невеста долго, инда во слезу всех вогнала, понравилась она мне: люта́я будет, в мать, а из себя — тве́рдинька, хоть и невеличка ростом, а поставненька! С личика бела и с очей весела!
Яфим опять молча усмехнулся, а Настя сказала:
— Коли люта́я — не житье мне будет с ней!
— Ну, девичьи думки изменчивы! Тебя, чай, просватаем на тот мясоед!
— Надоела я вам, что ли? — взметнулась Настя.
— Не надоела, а чему быть, тому не миновать, не все тебя будем миловать! Девкой меньше — бабой больше! Бабы каются, а девки замуж собираются!.. Так-то-сь, бывало, стары люди баяли!
Вошел дед, весело сбросил шубняк, встал посередь избы под матицу и, притопнув лаптями, неожиданно запел:
Уж ты, хмелюшка, весела голова,
Весела голова, широкая борода!..
Уж как нет тебя, хмеля, крепче,
Уж как нет тебя, хмеля, веселея!..
Бабушка рассмеялась добреньким, конфузливым смешком:
— И што ты, старик, расплясался! хмель шумит, так голова молчит!
— Молчи ты, старуха! что есть в печи, все на стол мечи! — и, притопнув, продолжал:
Хмелюшка по полю гуляет,
Еще сам себя хмель выхваляет!
— Меня сам государь, хмеля, знает,
И князья, и бояре почитают,
И монахи меня благословляют!
— Ишь тебя дома-то разобрало! Видно, в гостях хорошо, а дома лучше?