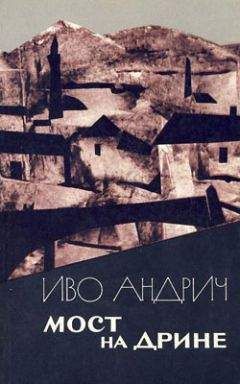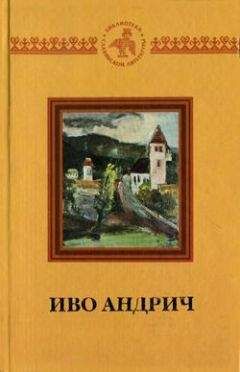Иво Андрич - Собрание сочинений. Т.3. Травницкая хроника. Мост на Дрине
Приказы относительно присылки офицеров в Турцию прекратились только тогда, когда в Стамбуле произошел майский переворот[11]. Новые приказы перестали поступать, но старые продолжали слепо и механически выполняться. И долго еще, во исполнение устаревшего приказа, в Травник вдруг приезжали два-три французских офицера, хотя теперь это было бесцельно и бессмысленно.
Но если, с одной стороны, события в Стамбуле облегчили положение консула, то, с другой стороны, они были чреваты еще большими неприятностями.
Давиль чувствовал, что помощь и поддержку он мог получить только от Хусрефа Мехмед-паши. Консул уже неоднократно имел возможность убедиться, насколько простирается действительная власть визиря и его влияние на боснийских бегов. Многие обещания так и оставались обещаниями, многие приказы визиря не выполнялись, хотя сам он делал вид, что не замечает этого. Но добрая воля визиря была вне всякого сомнения. Он желал — как по внутренней склонности, так и из расчета, — чтобы его принимали за друга французов, и стремился доказать это на деле. Кроме того, счастливый характер Мехмед-паши, его несокрушимый оптимизм, легкость, с какой он разрешал разные вопросы и переносил всяческие невзгоды, сами по себе действовали на Давиля успокаивающе и помогали ему переносить мелкие и крупные неприятности его новой жизни.
А последние события грозили отнять и эту единственную прочную опору и утешение.
В мае того же года в Стамбуле произошел государственный переворот. Просвещенный султан-реформатор Селим III был свергнут своими фанатичными врагами и заточен в серале, а на его место посажен султан Мустафа. Французское влияние в Стамбуле ослабло, и, что было хуже всего для Давиля, положение Хусрефа Мехмед-паши пошатнулось; с падением Селима III он лишился поддержки в Стамбуле, а как друга французов и сторонника реформ его ненавидели в Боснии.
Конечно, на людях визирь продолжал улыбаться своей широкой улыбкой моряка и не терял восточного оптимизма, корни которого лежали лишь в нем самом, но это никого не могло обмануть. Травницкие турки, которые все без исключения были противниками реформ Селима III и врагами Мехмед-паши, уверяли, что «паша висит на волоске». В Конаке водворилась тревожная тишина. Каждый старался незаметно приготовиться к отъезду, который мог произойти в любой день. И каждый, погруженный в свои личные заботы, молча глядел перед собой отсутствующим взором. Да и сам визирь, разговаривая с Давилем, казался рассеянным, любезностью и громкими словами он старался скрыть свое бессилие помочь кому бы то ни было и в чем бы то ни было.
Приезжали специальные курьеры, и визирь посылал своих гонцов в Стамбул с секретными поручениями и подарками друзьям, которые еще там оставались. Давна разузнавал подробности и уверял, что визирь, в сущности, борется столько же за свою голову, сколько и за свое положение при новом султане. Прекрасно понимая, что означала бы для дела и для него самого потеря теперешнего визиря, Давиль с самого начала посылал и генералу Мармону и послу в Стамбуле срочные донесения, убеждая употребить все свое влияние в Порте для того, чтобы Мехмед-паша невзирая на политические перемены остался в Боснии, ибо так же поступают русские и австрийцы, защищая своих друзей, и по результатам подобных действий здесь расценивают силу и влияние христианских государств. Боснийские турки ликовали.
«Свергли султана-гяура, — говорили ходжи, сидя у лавок, — пришла пора стереть всю грязь, налипшую за последние годы на чистой вере и турецкой жизни. Хромой визирь уедет и увезет с собой своего приятеля консула так же, как он его и привез». Толпа повторяла эти слова и распалялась все больше. Задирали прислугу консула, устраивали на нее нападения. Вслед Давне на улице неслись шутки и брань; к нему приставали с расспросами, готовится ли консул к отъезду, а если нет, то чего он ждет. А драгоман, длинный и черный, презрительно смотрел с высоты своей пегой кобылы и разъяснял дерзко, но обдуманно: они сами не знают, что говорят; слухи распустил какой-нибудь дурак, которому боснийская ракия ударила в голову; новый султан и французский император — большие друзья, и из Стамбула пришло приказание продолжать считать французского консула в Травнике «девлет-мусафиром» — гостем государства, а если с ним что случится, то вся Босния будет сожжена, не пощадят даже детей в колыбели. Давна постоянно твердил консулу, что именно теперь надо действовать смело, ни с чем не считаясь, ибо только так можно было повлиять на дикарей, нападающих на того, кто отступает.
В таком же духе действовал и визирь. Отряд мамелюков продолжал ежедневные военные занятия на поле у Турбета, и жители с ненавистью, но и со страхом смотрели на богатырей всадников в блестящем и тяжелом вооружении, разодетых и разукрашенных, как сваты. Визирь выезжал вместе с ними, наблюдал за занятиями, сам принимал участие к стрельбе по мишеням, словно у него не было никаких забот, словно он не помышлял ни об отъезде, ни о смерти, а готовился к борьбе.
Обе стороны — и местные турки, и визирь — ожидали решения нового султана и вестей из Стамбула о результатах происходившей там борьбы.
В середине лета прибыл специальный посланец, капиджи-баша султана, со свитой. Мехмед-паша устроил ему необычайно торжественный прием. Отряд мамелюков в полном составе, все сановники и ичогланы вышли ему навстречу. С крепости палили пушки. Мехмед-паша ожидал посланца перед Конаком. По городу мгновенно разнеслась весть, что визирю удалось все же снискать милость нового султана и остаться в Травнике. Турки не хотели верить этому и доказывали, что капиджи-баша вернется в Стамбул с головой Мехмед-паши в мешке. Но вести оказались правильными. Посланец привез фирман султана, подтверждающий, что Мехмед-паша остается в Травнике, и одновременно торжественно вручил визирю драгоценную саблю, подарок нового султана, с приказом весной выступить с сильным войском против Сербии[12].
Это радостное событие было омрачено странным и неожиданным образом.
На следующий день по приезде капиджи-баши, в пятницу, Давилю еще раньше был назначен прием у визиря. Мехмед-паша не только не отменил его, но принял консула в присутствии капиджи-баши, представив его как старого друга и доброго вестника милостей султана. И тут же показал подаренную султаном саблю.
Капиджи-баша, уверявший консула, что он, подобно Мехмед-паше, искренний поклонник Наполеона, был высокого роста, по-видимому метис ярко выраженного негритянского типа. Его желтая кожа имела сероватый оттенок, губы и ногти были темно-синие, а белки глаз грязновато-мутные.
Капиджи-баша много и возбужденно говорил о своих симпатиях к Франции и ненависти к России. В уголках его толстых выпуклых губ скапливалась пена. Глядя на него, Давиль желал в душе, чтобы он сделал передышку и вытерся, но капиджи-баша продолжал говорить как в лихорадке. Давна, переводя, едва успевал за ним. Капиджи-баша с еще неутихшей ненавистью рассказывал о том, как воевал против России, о совершенном им подвиге под Очаковом, где он был ранен. Неожиданно быстрым движением он завернул узкий рукав антерии и показал широкий шрам ниже локтя — след, оставленный русской саблей. Тонкая, но сильная рука чернокожего заметно дрожала.
Мехмед-паша наслаждался сердечным разговором своих друзей и смеялся больше обыкновенного, словно не мог скрыть, как он счастлив, обласканный милостями султана.
В этот день прием необычно затянулся. На обратном пути Давиль спросил Давну:
— Как вы находите этого капиджи-башу?
Обычно на подобные вопросы Давна охотно выкладывал все, что успевал узнать. Но на сей раз он был удивительно краток.
— Этот человек тяжко болен, господин генеральный консул.
— Да, странный гость,
— Очень, очень больной человек, — шептал Давна, глядя перед собой, и больше ни о чем не распространялся.
Через день Давна явился к консулу раньше положенного часа. Давиль принял его в столовой, где заканчивал завтрак.
Было летнее воскресное утро, одно из тех, которые своей свежестью и прелестью будто хотят вознаградить за холод и мрак осенних и зимних дней. Многочисленные незримые ручейки наполняли воздух прохладой, журчанием и голубым сиянием. Давиль хорошо выспался, отдохнул и был в отличном настроении, довольный приятными вестями, согласно которым Мехмед-паша оставался в Травнике. Перед ним были остатки завтрака, и он вытирал рот жестом здорового человека, только что утолившего голод, когда вошел Давна, черный и бледный как всегда, сжав губы и стиснув челюсти.
Понизив голос, Давна объявил, что капиджи-баша этой ночью умер.
Давиль резко поднялся, оттолкнув столик с завтраком, а Давна, не двигаясь с места и не меняя позы, на все взволнованные вопросы консула отвечал так же тихо, кратко и не очень ясно.