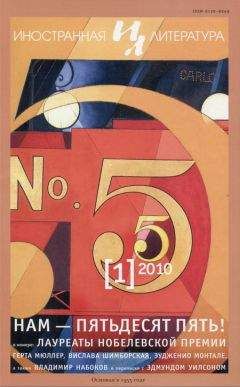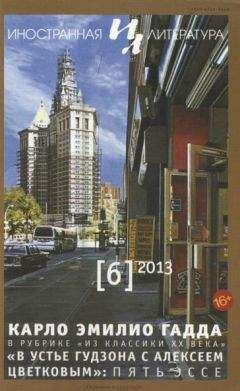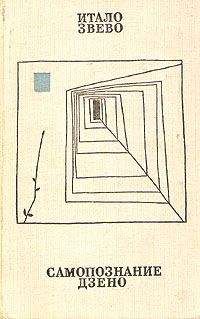Эудженио Монтале - Динарская бабочка
Синьор М. остановился у ограды Аквасолы[30] и сел на тумбу. «Нужно ее подождать, — повторял он. — Она слишком отстала».
Старая от рождения, неграмотная, согнутая и бородатая, Мария стояла на страже благополучия чужой семьи еще до того, как старший М. женился и произвел на свет достойных отпрысков: с пятнадцати до восьмидесяти лет она была судьей и распорядительницей в своем новом доме. Разумеется, у нее был и свой дом, но, чтобы попасть туда, ей приходилось ждать переезда на лето в Монтекорво, а оттуда еще десять часов идти пешком. В первые два или три лета Мария еще предпринимала это путешествие, но потом, когда поняла, что ее там уже успели забыть или считают не своей, чужачкой, окончательно оторвалась от родных пенатов. Для нее стали своими два дома, городской и дача, стали своими чужие дети, которых она водила в школу, — двое детей с разницей в тринадцать лет, требовавшие заботливого внимания и после того, как выросли. Радостное ощущение жизни рождается из повторения определенных поступков и из верности определенным привычкам, из возможности сказать себе: «я буду делать то же, что и раньше, но не в точности то же самое». Рождается из другого в том же самом, и это одинаково как для человека неграмотного, так и для писателя.
«А вот и она», — сказал синьор М., увидев ее вдалеке, и побежал в сторону улицы Серра, начав задыхаться от астмы с первых метров Подъема капуцинов. Наверху он обнаружил молочную, где когда-то останавливался выпить стакан молока с печеньем «Лагаччо». Он и сегодня сел за столик в саду, но с огорчением обнаружил, что находится в современном кафе, где запах парного молока сменился терпким запахом эспрессо. Несколько секунд он боролся с желанием встать и уйти. Сделать это ему помогло появление официанта. «Я ошибся», — сухо сказал синьор М. и выбежал из кафе под удивленными взглядами немногочисленных посетителей.
Подошла запыхавшаяся Мария, и некоторое время он сдерживал шаг, стараясь идти рядом. Ему нравилось подтрунивать над ней, и его колкости становились, чем дальше, тем менее безобидными. Она была девочкой, когда через ее родные края проходили войска Наполеона. Как же ей удалось постоять за себя? Не выдумка ли ее хваленая невинность?
На самом деле Мария родилась через полвека после наполеоновского похода, но она этого не знала и решительно отнекивалась, хотя не могла привести ни одного довода в свою защиту.
Она говорила, что не помнит никаких солдат и офицеров; у нее был жених, он ни разу к ней не притронулся, она не позволяла. Он уехал из деревни на поиски работы, и с тех пор ни разу не дал знать о себе. Наверняка, давным-давно умер.
Синьору М. не хотелось касаться темы, которую он считал неподходящей для десятилетнего мальчика, каким представил себя, но ни одна другая тема на ум не приходила. Вернувшись в детские годы, он не смог освободиться от части своей жизни, связанной с более поздним временем. Он снова видел Марию в богадельне, ее уже не держали ноги, но это не мешало ей воевать с соседками и жадно экономившими сахар монахинями, он перечитывал извещение о ее смерти, полученное спустя много лет после того, как он покинул родительский дом. Кто знает, где она похоронена? Синьор М. никогда не был на ее могиле. Он редко вспоминал о Марии, она являлась ему лишь в самые мрачные часы его жизни. Нищая, неграмотная старуха, чье существование в этом мире было бессмысленным, бесполезным. Несомненно, он оставался единственным человеком, сохранившим, пусть зыбкую, память о ней. Иногда он боролся с этой памятью, старался избавиться от нее, как избавляются от изношенной одежды. Во всех домах, пока они не поменяли хозяев, есть какая-нибудь пустая склянка, какая-нибудь безделушка, которую никто из новых жильцов не решается выбросить. В жизни синьора М., у которого больше не было дома, не осталось ничего, что могло бы претендовать на роль табу, кроме этой трясущейся, задыхающейся тени. Годами он тщетно отталкивал ее от себя, а сейчас она шла рядом, тяжело дыша, с трудом поспевая за ним.
Бесполезное существование? Неправда, мысленно возражал себе синьор М. Когда на земле не будет больше ни одной старой служанки, когда все соединительные механизмы в мире обретут названия и перестанут довольствоваться отведенной им ролью, а чаши на весах прав и обязанностей придут в полное равновесие для всех и каждого, разве найдется на свете кто-нибудь, кому посчастливится возвращаться из школы с призраком, кто-нибудь, кто сумеет победить страх одиночества, чувствуя себя под защитой идущего рядом ангела в образе бородатого страшилища?
Синьор М. подошел к парапету: отсюда внизу, там, где кончались серые крыши, был виден порт, маяк, море, зыблемое ветром по ту сторону волнорезов. Вниз можно было попасть на лифте, который поднимался из центра города. Время от времени кабина лифта приходила, и вышедшие из нее пересекали маленькую площадь, не оглядываясь: зачем оглядываться, если картина за спиной хорошо знакома?
Чей-то голос окликнул его по имени.
— Ба, вот это встреча! Что ты здесь делаешь в одиночестве? Если не ошибаюсь, последний раз мы виделись лет тридцать назад.
Это был школьный товарищ — они учились вместе в старших классах, — его ровесник. Лицо ничего ему не говорило. Роясь во мраке памяти, он попытался вспомнить фамилию. Бурламакки? Каччапоти? Кажется, в ней было четыре слога…
— Да уж, — сказал синьор М. — Рад встрече. — Я тут случайно, проходил… один… и на минутку остановился…
Он заикался. Заметил ли что-нибудь школьный товарищ? Он оглянулся и увидел у парапета двух или трех старух с детьми. Старухи не имели к нему отношения. Мария еще не успела подойти или ушла вперед.
— Я опаздываю, — сказал он и поспешил к лифту. — Пока. Надеюсь, увидимся… рано или поздно… До встречи…
Он вошел в лифт, двери закрылись, и кабина устремилась вниз. Покачав головой, школьный товарищ пошел своей дорогой.
ВОЙТИ ВО ВКУС
Не успели они сесть за столик, а она уже знала, что заказать, жестом подозвала молодого официанта, и тот подошел с меню в руке.
— Двойное консоме, пулярда на решетке, печеное яблоко и манценил.
— Манценил? Что это? — спросил господин, который был с ней. — Я знаю ядовитое дерево с таким названием. Уснуть под ним — значит никогда не проснуться. Это растение-убийца[31].
— А также сногсшибательный напиток: говорят, он представляет собой настой плодов рожкового дерева. От него приятно мутится сознание. Но одной порции мало: в день надо выпить не меньше трех-четырех бокалов.
Она показала на рекламный плакат: мужчины и женщины с волосами яичного цвета, в вечерних нарядах, лежали в тени большого дерева, вооружившись ручными гранатами в виде бутылок пенистого напитка, на лицах — блаженные улыбки.
Господин продолжил изучение меню, мучительно выбирая, что заказать. На помощь ему пришел пожилой, чисто выбритый официант с картой вин.
— «Кьяретто», «Бардолино», «Кьянти»? Фриулийский «Токай»? «Кластидио»? Вальтеллинский «Рай»? Или «Ад»?
— Пусть будет «Рай». Пока все. Я должен подумать. Подавайте даме.
Официанты удалились. Господин снова уткнулся в меню.
— Форель отварная в красном вине, — читал он вслух. — Камбала янтарная à la meunière[32]. Угорь по-ливорнски. Нет уж, спасибо. Это блюдо вызывает у меня в памяти илистую канаву недалеко от моего дома. Кто знает, существует ли она еще. Она петляла, а может быть, и до сих пор петляет между каменными глыбами и зарослями камыша, и подойти к ней можно было далеко не везде. Если долго лили дожди, после них оставались бочаги, вокруг которых толпились прачки, и в эти бочаги попадали угри — лучшие в мире. Маленьких бледно-желтых угрей трудно было увидеть сквозь жирную толщу мыльной воды. Чтобы поймать угря, следовало огородить один из таких бочагов кусками шифера, воткнутыми в дно, вычерпать горстями воду и прежде, чем она просочится обратно, войти босиком в яму и шарить руками в камнях и гнилой траве на дне. Если угря удавалось обнаружить и у нас была вилка, дело оставалось за малым: удар — и через секунду поддетый на вилку кровоточащий угорь извивался уже наверху, на краю ямы. Без вилки поймать угря было сложно, он выскальзывал из рук, прятался в пузырящемся мыльном осадке на дне. Чтобы добыть двадцатисантиметрового угря, скользкого, грязного, наполовину выпотрошенного орудием ловли, нужно было потратить не меньше получаса.
— И ты его ел? — спросила она, — намазывая горчицу на полупрожаренную пулярду, полосатую от решетки.
— Мы ели его втроем или вчетвером, поджарив на костре из соломы и бумаги. Он пахнул дымом и грязью. Вкусный — пальчики оближешь. Но наш обед состоял не только из него. Обычно к этому времени мы успевали приготовить кое-что еще: например, славку. Два-три часа мы сидели, притаившись, под кривым тополем в узком проходе между оранжереей и кустами смолосемянника, образующими живую изгородь. У моих товарищей были рогатки с резинкой, а у меня — пневматический «Флобер», заряженный несколькими патронами.