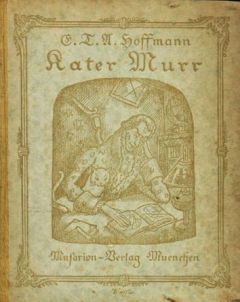Эрнст Гофман - Житейские воззрения Кота Мурра
Монах впился в Крейслера испепеляющим взглядом, бормоча непонятные слова.
― Ну, гордый монах, ― продолжал капельмейстер, все более распаляясь, ― а когда ты еще носил вот это платье, ― с этими словами он поднес к глазам монаха портрет, полученный им от маэстро Абрагама; но едва тот завидел его, как в неистовом отчаянии ударил себя обоими кулаками по лбу, испустив душераздирающий скорбный стон, словно пораженный насмерть.
― Убирайся ты из обители, ты, преступный монах, ― воскликнул теперь Крейслер. ― А уж если ты по пути встретишь некоего куроцапа, с которым ты водишь компанию, так скажи ему, что ты не можешь и не желаешь защищать меня в другой раз; но пусть он побережется и не протягивает свои лапы к моей глотке, не то я проткну его как жаворонка или как его брата; а уж насчет того, чтобы проткнуть, я... ― Тут Крейслер ужаснулся самого себя; монах стоял перед ним оцепенелый, недвижный, все еще прижав кулаки ко лбу, не в силах вымолвить ни слова. Внезапно Крейслеру почудилось, будто в соседних кустах что-то шуршит и на него вот-вот набросится неистовый Джузеппе. Он ринулся прочь. Монахи как раз запели вечернюю молитву, и Крейслер поспешил в церковь, надеясь там успокоить свою до крайности смятенную, глубоко уязвленную душу.
Когда вечерня кончилась, монахи покинули хоры. Вот потухли и свечи. Мысли Крейслера обратились к благочестивым старым мастерам, которых он поминал в споре с Киприаном. Музыка, благоговейная музыка зазвучала в его душе: то пела Юлия, и буря утихла в его груди. Он хотел выйти через боковой придел, откуда двери вели в длинный коридор, оканчивавшийся лестницей, и по ней подняться к себе в комнату.
Когда Крейслер вошел в придел, какой-то монах с трудом поднялся с пола, где он лежал, распростершись перед чудотворным образом Марии. В сиянии неугасимой лампады Крейслер признал Киприана, но изможденного и жалкого, казалось, он только что очнулся от обморока. Крейслер протянул ему руку, желая помочь. Тогда монах заговорил тихим трепещущим голосом:
― Я узнаю вас, вы ― Крейслер. Сжальтесь, не покидайте меня, помогите мне подняться вон туда, на ту ступень, я хочу сесть, сядьте и вы со мной рядом. Да услышит нас лишь всеблагая. Смилостивьтесь, окажите милосердие, ― продолжал монах, когда они уселись на ступеньках алтаря. ― Доверьте мне все, погибельный портрет достался вам от старого Северино, и вам известна вся эта ужасная тайна?
Прямодушно, ничего не тая, Крейслер уверил его, что портрет получен им от Абрагама Лискова, далее он безбоязненно поведал ему обо всем, что приключилось в Зигхартсгофе, и о том, что только сопоставив многие события, заключил о каком-то злодеянии; по видимости, портрет был живою памятью о нем и устрашающим обличеньем.
Монах, казавшийся необыкновенно потрясенным некоторыми местами рассказа Крейслера, молчал несколько мгновений. Затем, собравшись с силами, он начал окрепшим голосом:
― Вам известно слишком многое, Крейслер, и потому вы должны знать все. Так знайте же. Принц Гектор, ваш заклятый преследователь, ― это мой младший брат. Оба мы отпрыски одного княжеского рода, и я унаследовал бы трон, если бы его не опрокинула буря времени. Разразилась война, и мы оба поступили в войско, и служба привела меня, а следом и моего брата, в Неаполь. В те годы я предавался всем порокам светской жизни, особенно же мною завладела необузданная страсть к женскому полу. У меня была любовница, некая танцовщица, столь же прекрасная, сколь и мерзостная душою, что не мешало мне волочиться за всеми распутными девками, какие только мне попадались.
Случилось так, что однажды, когда уже начинало смеркаться, я преследовал на Моло несколько созданий подобного рода. Я уж вот-вот настигал их, как вдруг над самым моим ухом чей-то голос пронзительно воскликнул: «До чего же премиленький шалопай, этот принц. Бегает за простыми девками, а ведь мог бы обниматься с раскрасавицей принцессой». Взор мой остановился на старой оборванной цыганке ― несколько дней тому назад я видел, как ее уводили сбиры за то, что она в пылу ссоры сбила с ног своей клюкой продавца воды, хотя он и был дюж с виду. «Чего тебе от меня надо, старая ведьма?» ― закричал я цыганке, но она тут же извергла на меня поток столь мерзкой, подлейшей брани, что немедля нас окружила праздная толпа, бешено хохотавшая над моим замешательством. Я хотел уйти, но старуха крепко ухватила меня за полу и, внезапно прервав сквернословие, вполголоса сказала мне, скривив свое гнусное лицо издевательской усмешкой: «Не спеши, милый принц, послушай лучше, что я тебе скажу про писаного ангелочка, что обезумел от любви к тебе». Сказав это, старуха насилу поднялась, крепко уцепившись за мою руку, и начала нашептывать мне о какой-то девице, писаной красавице, свежей, как ясное утро, к тому же еще невинной. Я счел старуху простой сводней и порешил отделаться от нее несколькими дукатами, ибо не собирался пускаться в новые похождения. Но она не взяла денег, а когда я удалился, громко смеясь, закричала мне вдогонку: «Ну, уходи, уходи, господин хороший. Скоро сам будешь искать меня с кручиной в сердце».
Минуло несколько дней; я не вспоминал более о цыганке, как вдруг однажды в месте гулянья, называемом Вилла Реале, мимо меня прошла девушка невиданной мною дотоле прелести. Я поспешил обогнать ее, и когда увидел ее лицо, мне показалось, что сияющие небеса неизреченной красоты разверзлись предо мною. Так думал я тогда, ибо был грешником, и то, что я теперь, когда мне не подобало бы слишком много говорить о земной красоте, да, верно, и не удалось бы, поверяю вам эти нечестивые мысли, послужит вам лучше всяких описаний дивных чар, коими предвечный украсил очаровательную Анджелу. Рядом с красавицей шла, или, лучше сказать, ковыляла, дама весьма преклонных лет, одетая с достоинством и отличная только своей необыкновенной толщиной да странной неуклюжестью. Хоть ее наряд был совершенно изменен, а лицо было частью скрыто под чепцом, я мгновенно признал в старой даме цыганку с Моло. Шутовская усмешка старухи, ее легкий кивок подтвердили мне, что я не ошибся.
Я глаз не мог свести с обольстительного чуда. Прелестная Анджела потупила взор, веер выскользнул из ее рук. Я быстро поднял его. Отдавая веер, я коснулся ее пальцев ― они трепетали; пламень дьявольской страсти вспыхнул во мне, и я не предчувствовал, что уже наступил первый миг ужасного испытания, ниспосланного мне небом. Разум мой помутился, оцепенев, стоял я и едва не проглядел, как моя красавица и ее провожатая уселись в карету, ожидавшую в конце аллеи. Лишь когда карета тронулась, я опамятовался и бросился за ней, словно бешеный. Я поспел еще вовремя, чтобы заметить: карета остановилась перед домом на узкой уличке, идущей к площади Ларго делле Пьяне. Моя красавица вместе с провожатой сошли, и, так как карета немедля укатила, лишь только они скрылись в подъезде, я мог справедливо предположить, что это их жилище.
На площади Ларго делле Пьяне жил мой банкир, синьор Алессандро Сперци, и мне взбрело на ум, чего ради ― сам не знаю, навестить его. Он полагал, что я пришел по делам, и начал весьма пространно разглагольствовать о моих обстоятельствах. Однако у меня на уме была только моя незнакомка, я не мог ни думать, ни слышать ни о чем, кроме нее, и вышло так, что вместо ответа на речи синьора Сперци я тут же поведал ему о моем обольстительном приключении. Синьор Сперци рассказал мне о моей красавице более, чем я мог предполагать. Один торговый дом в Аугсбурге каждые полгода переводил для нее на его имя изрядные деньги. Ее звали Анджела Бенцони, а старуху ― госпожа Магдала Сигрун. В свой черед синьор Сперци обязан был сообщать аугсбургскому торговому дому все сведения о жизни девицы, и поскольку еще до того, как он стал управлять ее имуществом, ему было поручено руководить ее воспитанием, синьор Сперци в некотором роде мог почитаться опекуном девушки. По мнению банкира, она была плодом запретной связи между особами самого высокого звания.
Я выказал синьору Сперци свое удивление тем, что подобное сокровище могло быть доверено столь двоедушной старухе, которая шатается по улицам в грязных цыганских лохмотьях и, по всей вероятности, сводничает. На это банкир уверил меня, что не сыщется нянюшки верней и заботливей старухи, прибывшей сюда вместе с Анджелой, когда той минуло всего два года. А что старуха порою переряжается в цыганку, это лишь диковинная причуда, какую здесь, в краю карнавальной вольности, вполне позволительно ей извинить.
Я не смею, не должен распространяться. Старуха в своем цыганском обличье скоро отыскала меня и сама отвела к Анджеле, которая с краской милой девичьей стыдливости на лице открылась мне в своей любви. В своем заблуждении я все еще полагал, будто старуха ― нечестивая торговка грехом, однако ж вскоре убедился в противном: Анджела была целомудренней и чище снега, и она, чьей прелестью думал я греховно упиться, заставила меня поверить в ее добродетель, которую ныне я, разумеется, должен счесть адским, дьявольским наваждением. Чем пуще и пуще разгоралась моя страсть, тем более и более поддавался я старухе, непрестанно нашептывавшей мне, что я должен сочетаться с Анджелой узами брака. Пусть до поры наше супружество и останется тайной, однако придет день, когда я смогу открыто возложить княжескую диадему на чело моей супруги. Ибо, как уверяла старуха, Анджела по знатности рода не уступает мне.