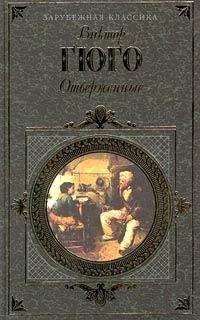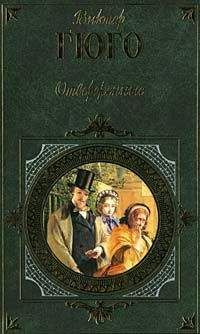Виктор Гюго - Отверженные. Том II
Он не осмеливался их позвать — если бы его крик услышал часовой, это погубило бы все; но у него возникла мысль, последний чуть брезжущий луч надежды: он вытащил из кармана конец веревки Брюжона, которую отвязал от печной трубы Нового здания, и бросил се за ограду.
Веревка упала к их ногам.
— Удавка! — сказал Бабет.
— Мой шнурочек! — подтвердил Брюжон.
— Трактирщик здесь, — заключил Монпарнас
Они подняли глаза, Тенардье приподнял голову над стеной.
— Живо! — сказал Монпарнас. — Другой конец веревки у тебя, Брюжон?
— Да.
— Свяжи концы вместе, мы бросим ему веревку, он прикрепит ее к стене, этого хватит, чтобы спуститься.
Тенардье отважился подать голос:
— Я промерз до костей.
— Согреешься.
— Я не могу шевельнуться.
— Ты только скользнешь вниз, мы тебя подхватим.
— У меня окоченели руки.
— Привяжи только веревку к стене.
— Я не могу.
— Нужно кому-нибудь из нас подняться к нему, — сказал Монпарнас.
— На третий этаж! — заметил Брюжон.
Старый оштукатуренный дымоход, выходивший из печки, которую некогда топили в лачуге, тянулся вдоль стены и доходил почти до того места, где был Тенардье. Эта труба, в то время сильно потрескавшаяся и выщербленная, впоследствии обрушилась, но следы ее видны и сейчас. Она была очень узкая.
— Можно взобраться по ней, — сказал Монпарнас.
— По этой трубе? — вскричал Бабет. — Мужчине — никогда. Здесь нужен малек.
— Нужен малыш, — подтвердил Брюжон.
— Где бы найти ребятенка? — спросил Живоглог.
— Подождите, — сказал Монпарнас. — Я придумал.
Он приоткрыл калитку, удостоверился, что на улице никого нет, осторожно вышел, закрыл за собою калитку и бегом пустился к Бастилии.
Прошло минут семь, восемь — восемь тысяч веков для Тенардье; Бабет, Брюжон и Живоглот не проронили ни слова; калитка наконец снова открылась, и в ней показался запыхавшийся Монпарнас в сопровождении Гавроша. Улица из-за дождя была по-прежнему пустынна.
Гаврош вошел и спокойно оглядел эти разбойничьи физиономии. Вода капала с его волос.
— Малыш! Мужчина ты или нет? — обратился к нему Живоглот.
Гаврош пожал плечами.
— Такой малыш, как я, — мужчина, а такие мужчины, как вы, — мелюзга, — ответил он.
— Как у малька здорово звякает звонок! — вскричал Бабет.
— Пантенский малыш — не мокрая мышь, — добавил Брюжон.
— Ну? Что же вам нужно? — спросил Гаврош.
— Вскарабкаться по этой трубе, — ответил Монпарнас.
— С этой удавкой, — заметил Бабет.
— И прикрутить шнурок, — продолжал Брюжон.
— К верху стены, — вставил Бабет.
— К перекладине в стекляшке, — прибавил Брюжон.
— А дальше? — спросил Гаврош.
— Все, — заключил Живоглот.
Мальчуган осмотрел веревку, трубу, стену окна и произвел губами тот непередаваемый и презрительный звук, который обозначает: «Только-то?»
— Там наверху человек, надо его спасти, — сказал Монпарнас.
— Согласен? — спросил Брюжон.
— Дурачок! — ответил мальчик, как будто вопрос представлялся ему оскорбительным, и снял башмаки.
Живоглот подхватил Гавроша, поставил его на крышу лачуги, прогнившие доски которой гнулись под его тяжестью, и передал ему веревку, связанную Брюжоном надежным узлом во время отсутствия Монпарнаса. Мальчишка направился к трубе, в которую было легко проникнуть благодаря широкой расселине у самой крыши. В ту минуту, когда он собирался влезть в трубу, Тенардье, увидев приближающееся спасение и жизнь, наклонился над стеной; слабые лучи зари осветили его потный лоб, его посиневшие щеки, заострившийся хищный нос, всклокоченную седую бороду, и Гаврош его узнал.
— Смотри-ка, — сказал он, — да это папаша!.. Ну ладно, пускай его!
Взяв веревку в зубы, он решительно начал подниматься. Добравшись до верхушки развалины, он сел верхом на старую стену, точно на лошадь, и крепко привязал веревку к поперечине окна.
Мгновенье спустя Тенардье был на улице.
Как только он коснулся ногами мостовой, как только почувствовал себя вне опасности, ни усталости, ни холода, ни страха как не бывало; все то ужасное, от чего он избавился, рассеялось, как дым; его странный, дикий ум пробудился и, почуяв свободу, воспрянул, готовый к дальнейшей деятельности.
Вот каковы были первые слова этого человека:
— Кого мы теперь будем есть?
Не стоит объяснять смысл этого слова, до ужаса ясного, обозначавшегоубивать, мучить и грабить. Истинный смысл слова есть — это пожирать.
— Надо смываться, — сказал Брюжон. — Кончим в двух словах и разойдемся. Попалось тут хорошенькое дельце на улице Плюме: улица пустынная, дом на отшибе, сад со старой ржавой решеткой, в доме одни женщины.
— Отлично! Почему же нет? — спросил Тенардье.
— Твоя дочка Эпонина ходила туда, — ответил Бабет.
— И принесла сухарь Маньон, — прибавил Живоглот. — Там делать нечего.
— Дочка не дура, — заметил Тенардье. — А все-таки надо посмотреть.
— Да, да, — сказал Брюжон, — надо посмотреть.
Никто уже не обращал внимания на Гавроша, который во время этого разговора сидел на одном из столбиков, подпиравших забор; он подождал несколько минут, быть может, надеясь, что отец вспомнит о нем, затем надел башмаки и сказал:
— Ну, все? Я вам больше не нужен, господа мужчины? Вот вы и выпутались из этой истории. Я ухожу. Мне пора поднимать ребят.
И он ушел.
Пять человек вышли один за другим из ограды.
Когда Гаврош скрылся из виду, свернув на Балетную улицу, Бабет отвел Тенардье в сторону.
— Ты разглядел этого малька?
— Какого малька?
— Да того, который взобрался на стену и принес тебе веревку?
— Не очень.
— Ну так вот, я не уверен, но мне кажется, что это твой сын.
— Ты так думаешь? — спросил Тенардье.
Книга седьмая
Арго
Глава первая.
Происхождение
Pigritia[45] — страшное слово.
Оно породило целый мир — la pegre, читайте: воровство, и целый ад — la pegrenne, читайте: голод.
Таким образом, лень — это мать.
У нее сын — воровство, и дочь — голод.
Где мы теперь? В сфере арго.
Что же такое арго? Это и национальность и наречие; это воровство под двумя его личинами — народа и языка.
Когда тридцать четыре года назад рассказчик этой мрачной и знаменательной истории ввел в оно из своих произведений[46], написанных с такой же целью, как и это, вора, говорящего на арго, это вызвало удивление и негодующие вопли: «Как? Арго? Не может быть! Но ведь арго ужасно! Ведь это язык галер, каторги, тюрем, всего самого отвратительного, что только есть в обществе!» и т.д. и т.д.
Мы никогда не понимали возражений такого рода.
Потом, когда два великих романиста, один из которых являлся глубоким знатоком человеческого сердца, а другой — неустрашимым другом народа, Бальзак и Эжен Сю, заставили говорить бандитов на их языке, как это сделал в 1828 году автор книги «Последний день приговоренного к смертной казни», снова раздались вопли. Повторяли: «Зачем оскорбляют наш слух писатели этим возмутительным наречием? Арго омерзительно! Арго приводит в содрогание!»
Кто же это отрицает? Конечно, это так.
Когда речь идет о том, чтобы исследовать рану, пропасть или общество, то с каких это пор стремление проникнуть вглубь, добраться до дна считается предосудительным? Мы всегда считали это проявлением мужества, во всяком случае, делом полезным и достойным сочувственного внимания, которого заслуживает принятый на себя и выполненный долг. Почему же не разведать все, не изучить всего, зачем останавливаться на полпути? Останавливаться — это дело зонда, а не того, в чьей руке он находится.
Конечно, отправиться на поиски в самые низы общества, туда, где кончается твердая почва и начинается грязь, рыться в этих вязких пластах, ловить, хватать и выбрасывать на поверхность животрепещущим это презренное наречие, сочащееся грязью, этот гнойный словарь, где каждое слово кажется мерзким звеном кольчатого чудовища, обитателя тины и мрака, — все это задача и не привлекательная и не легкая. Нет ничего более удручающего, чем созерцать при свете мысли отвратительное в своей наготе кишение арго. Действительно, кажется, что пред вами предстало гнусное исчадие ночной тьмы, внезапно извлеченное из его клоаки. Вы словно видите ужасную живую, взъерошенную заросль, которая дрожит, шевелится, смотрит на вас, угрожает и требует, чтобы ее вновь погрузили во мрак. Вот это слово походит на коготь, другое — на потухший, залитый кровью глаз; вот эта фраза как будто дергается наподобие клешни краба. И все это обладает той омерзительной живучестью, которая свойственна всему зарождающемуся в разложении.
Далее, с каких это пор ужас стал исключать исследование? С каких это пор болезнь стала изгонять доктора? Можно ли представить себе естествоиспытателя, который отказался бы изучать гадюку, летучую мышь, скорпиона, сколопендру, тарантула и швырнул бы их обратно во тьму, воскликнув: «Какая гадость!» Мыслитель, отвернувшийся от арго, походил бы на хирурга, отвернувшегося от бородавки или язвы. Он был бы подобен филологу, не решающемуся заняться каким-нибудь языковым явлением, или философу, не решающемуся вникнуть в какое-нибудь явление общественной жизни. Ибо арго, — да будет известно тем, кто этого не знает, — явление литературное и вместе с тем следствие определенного общественного строя. Что же такое арго в собственном смысле? Арго-это язык нищеты.
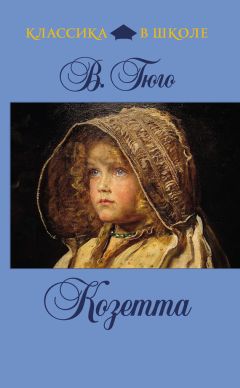

![Наталья Девятко - Карта и компас [litres]](/uploads/posts/books/26432/26432.jpg)