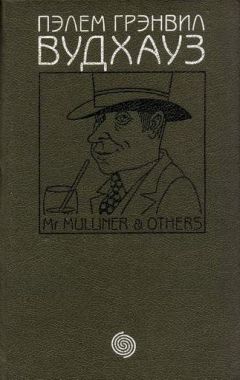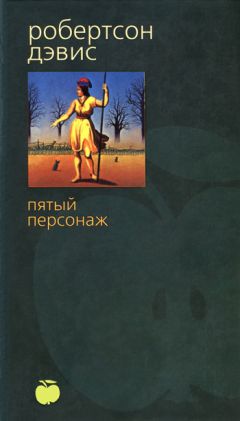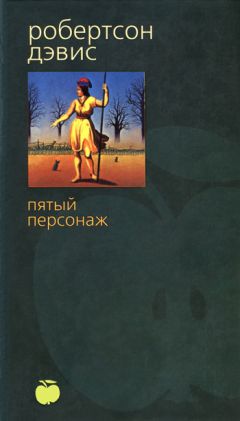Пэлем Вудхауз - Том 4. М-р Маллинер и другие
— Нудные эти торжества, — сказал он.
— Еще бы!
— Даже от старого портвейна лучше не стало…
— Ни в малой мере. Интересно, не поможет ли «Эй, смелей!»? Такое тонизирующее средство, мой секретарь принимает. Ему-то оно приносит пользу; удивительно бодрый человек. Не попросить ли дворецкого, чтобы он зашел к нему и позаимствовал бутылочку? Он будет только рад.
— Несомненно.
Дворецкий принес из комнаты Августина полбутылки густой темной жидкости. Епископ вдумчиво ее оглядел.
— Проспекта нет, я вижу, — сказал он, — но не гонять же беднягу снова! Да он ушел, наверное, вкушает заслуженный отдых. Разберемся сами.
— Конечно, конечно. Оно горькое? Епископ лизнул пробку.
— Нет. Скорее приятное. Странный вкус, я бы сказал — оригинальный, но горечи нет.
— Что ж, выпьем для начала по рюмочке.
Епископ налил два бокала и серьезно отпил из своего. Отпил и директор.
— Вполне, — сказал епископ.
— Недурно, — сказал директор..
— Как-то светлеешь.
— Не без того.
— Еще немного?
— Нет, спасибо.
— Ну, ну!
— Хорошо, чуточку.
— Очень недурно.
— Вполне.
Прослушав историю Августина, вы знаете, что брат мой Уилфрид создал это снадобье, чтобы подбодрить слонов, когда они робеют перед тигром; и прописывал он среднему слону столовую ложку. Тем самым вы не удивитесь, что после двух бокалов епископ и директор, скажем так, изменились. Усталость ушла вкупе с депрессией, сменили же их веселость и обострившееся чувство юности. Епископ ошущал, что ему — пятнадцать лет.
— Где спит твой дворецкий? — спросил он, немного подумав.
— Бог его знает. А что?
— Да так. Хорошо бы поставить у него в дверях капканчик.
— Неплохо!
Они подумали оба. Потом директор хихикнул.
— Что ты смеешься? — спросил епископ.
— Вспомнил, как ты глупо выглядел с этим, с Тушей. Несмотря на веселье, высокий лоб епископа прорезала морщина.
— Золотые слова! — произнес он. — Хвалить такого гада! Мы-то знаем… Кстати, чего ему ставят памятники?
— Ну, все-таки, — сказал терпимый директор, — он много сделал. Как говорится, строитель Империи.
— Можно было предугадать. И лезет, и лезет, всюду он первый! Кого-кого, а его я терпеть не мог.
— И я, — согласился директор. — А как мерзко смеялся! Будто клей булькает.
— А обжора! Мне говорили, он съел три бутерброда с ваксой, это после консервов.
— Между нами, я думаю, он крал в кондитерской. Нехорошо клеветать на человека, но посуди сам, видел ты его без булочки? То-то и оно.
— Килька, — сказал епископ, — я скажу тебе таку-ую штуку! В 1888 году, в финальном матче, когда мы сгрудились вокруг мяча, он лягнул меня по ноге.
— А эти кретины ставят ему статуи! Епископ наклонился вперед и понизил голос:
— Килька!
— Да!
— Знаешь что?
— Нет.
— Подождем до двенадцати, пока все лягут, и выкрасим его голубеньким.
— А почему не розовым?
— Можно и розовым.
— Нежный цвет.
— Верно. Очень нежный.
— Кроме того, я знаю, где розовая краска.
— Знаешь?
— Знаю.
— Да будет мир в стенах твоих, о Килька, и благоденствие в чертогах твоих,[88] — сказал епископ.
Когда епископ через два часа закрыл за собою дверь, он думал о том, что Провидение, благосклонное к праведным, буквально превзошло себя. Крась — не хочу! Дождь кончился; но месяц, тоже не подарок, стыдливо прятался за грядой облаков.
Что до людей, бояться было нечего. Школа после полуночи — пустыннейшее место на земле. Статуя с таким же успехом могла стоять в Сахаре. Взобравшись на пьедестал, они по очереди быстро выполнили свой долг. Лишь на обратном пути, стараясь идти потише, нет — уже подойдя к входной двери, испытали они удар судьбы.
— Чего ты топчешься? — прошептал епископ.
— Минутку, — глухо отозвался директор, — наверное, в другом кармане.
— Что?
— Ключ.
— Ты потерял ключ?
— Да, кажется.
— Килька, — сурово сказал епископ, — больше я не буду красить с тобой статуи.
— Уронил, что ли…
— Что нам делать?
— Может, открыто окно в кладовке?..
Окно открыто не было. Дворецкий, человек верный и ответственный, уходя на покой, закрыл его и даже спустил жалюзи.
Поистине, уроки детства готовят нас к взрослой жизни.
— Килька! — сказал епископ.
— Да?
— Если ты все не перестроил, за углом есть водосточная труба.
Память не подвела его. Среди плюща темнела та самая труба, по которой спускался он летом 86-го, чтобы выкупаться ночью.
— Лезем, — властно сказал он.
Когда они достигли окна, епископ сообщил другу, что, если он еще раз лягнет его, ему это припомнится. И тут окно внезапно распахнулось.
— Кто там? — спросил звонкий молодой голос.
Директор растерялся. Да, было темно, но все же он рассмотрел неприятную клюшку для гольфа и признался было, кто он, чтобы избежать дурных подозрений; но ему пришло в голову, что и это — опасно.
Епископ соображал быстрее.
— Скажи, — прошептал он, — что мы коты главного повара.
Честным, совестливым людям тяжела такая ложь, но что же делать?
— Не беспокойтесь, — заметил он с предельной небрежностью, — мы просто коты.
— То есть гуляки?
— Нет, обычные. Из зверей.
— Наш хозяин — шеф-повар, — подсказал снизу епископ.
— Хозяин — повар, — сообщил директор.
— А-га!.. — сказал человек в окне. — Ну, входите.
Он вежливо отошел в сторонку. Епископ благодарно мяукнул на ходу для вящей правдивости и побежал к себе, равно как и директор. Казалось бы, все прекрасно. Однако директору было не по себе.
— Как ты думаешь, он поверил? — беспокойно спрашивал он.
— Не знаю, — ответил епископ. — Нет, все-таки его обманула наша беспечность.
— Да, наверное. А кто он?
— Мой секретарь. Ну, который дал это средство.
— Тогда все в порядке. Он не выдаст.
— Верно. А больше улик нету.
— Может быть, — задумчиво прибавил директор, — нам не стоило его красить…
— Надо же кому-нибудь! — возразил епископ.
— Да, — оживился директор, — ты прав.
Епископ заспался допоздна и завтракал в постели. День, нередко пробуждающий совесть, ее не пробудил. Он ни о чем не жалел, разве что о том, не лучше ли, не ярче ли голубая краска. С другой стороны, нельзя обижать друга. И все-таки, голубое производит сильное впечатление…
В дверь постучали, вошел мой племянник.
— Привет, епиша! — сказал он.
— Доброе утро, Маллинер, — приветливо ответил епископ. — Что-то я заспался, поздно лег.
— А вот скажите, — спросил секретарь, — вы не хлебнули лишнего? Я говорю не о вине, а о нашем средстве.
— Лишнего? Нет. Выпил два бокала.
— О, Господи!
— В чем дело, мой дорогой?
— Да нет, ничего. Мне показалось, что вы какой-то странный на трубе.
Епископ опечалился.
— Значит, вы разгадали — э — наш невинный обман?
— Да.
— Понимаете, мы забыли дома ключ. Как хороша природа ночью! Бездонная тьма небес, дуновенье ветра, словно бы шепчущее нам великую тайну, всякие запахи…
— М-да, — сказал Августин, — тут большой тарарам, кто-то выкрасил эту статую.
— Выкрасил?
— Выкрасил.
— Ах, — заметил терпимый епископ, — школьники — это школьники!
— Очень странное дело…
— Конечно, конечно. Жизнь исполнена тайн, мой дорогой.
— Самое странное, что на статуе — ваша шляпа.
— Что?!
— Шляпа.
— Маллинер, — сказал епископ, — оставьте меня. Мне надо подумать.
Он быстро оделся, с трудом застегнув гетры дрожащими пальцами. Дрожал он потому, что вспомнил. Да, он вспомнил, как надевал статуе шляпу: «А что? — думал он тогда. — Хорошая мысль».
Директор был в школе, учил шестиклассников изящно писать по-гречески. Пришлось подождать до половины первого, когда зазвенел звонок, предвещая большую перемену. Епископ стоял у окна, едва сдерживая нетерпение. Наконец директор гёошел, ступая тяжело, словно что-то его гнетет. Он снял шапочку, снял мантию, опустился в кресло и проговорил:
— В толк не возьму, что на меня нашло…
— Удивляюсь, — сухо сказал епископ, — Мы выполнили наш долг, протестуя против того, что черт знает кому ставят статуи.
— А шляпу оставлять, тоже долг? — осведомился директор.
— Возможно, — признал епископ, — я зашел чуть дальше, чем следует. — Он кашлянул. — Это вызвало подозрения?
— Еще бы!
— Что думают попечители?
— Требуют, чтобы я нашел виновного. Иначе… в общем, будет плохо.
— Неужели снимут с поста?
— Да, вероятно. Придется уйти самому. А уж епископом мне в жизни не стать.