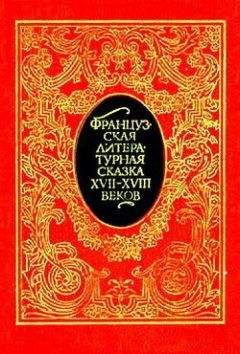Франсуа Фенелон - Французская повесть XVIII века
Я был в том возрасте, когда нашим едва развившимся и зрению, и слуху открывается новая вселенная; когда новые отношения завязываются между нами и нас окружающими; когда разгоревшиеся чувства и жадное воображение помогают нам находить подлинные наслаждения в сладчайших мечтаниях. Словом, мне было пятнадцать лет, я сбежал от своего воспитателя и верхом на крупном английском коне несся вскачь за двумя десятками собак, летевшими вдогонку за старым кабаном, — судите сами, был ли я счастлив! К концу четвертого часа охоты собаки сбились со следу, я — тоже. Я оторвался от остальных охотников. Лошадь моя, которой пришлось так долго идти во весь опор, запыхалась; я спешился. Мы оба повалились на траву. Затем конь стал пастись, а я решил перекусить. Я позавтракал хлебом и холодной куропаткой, усевшись тут же, на дне веселой лощинки; ее обрывы по обе стороны поросли вверху зелеными деревьями, вдали виднелась деревенька, расположенная на склоне холма, а между холмом и моей лощиной простирались пышные нивы и привлекательные с виду фруктовые сады.
Воздух был чист, и небо ясно; жемчужные капли росы еще блистали в траве; лучи солнца, едва поднявшегося на треть своего пути, жгли не слишком сильно, и жар их еще умерялся дыханьем слабого ветерка.
Где те любители природы, что умеют так наслаждаться хорошей погодой и красивым пейзажем? Я говорю для них. Что до меня, я был тогда занят окружавшей меня природой гораздо меньше, чем крестьяночкой в корсаже и белой юбке, которую приметил издалека и которая приближалась ко мне, неся на голове кувшин с молоком. С тайной радостью я увидел, что она перешла через ручей по доске, заменявшей мостик, и направилась по тропинке, которая должна была привести ее к тому самому месту, где я сидел. Вблизи она показалась мне очень свеженькой, и, сам не понимая, что со мной творится, я поднялся и пошел ей навстречу. С каждым моим шагом она все хорошела на глазах, и вскоре я уже досадовал на те шаги, что еще мне осталось пройти: так мне хотелось поскорее разглядеть ее. Дочери Грузии и Черкесии казались образинами по сравнению с моей милой молочницей, и такое совершенное создание никогда еще не украшало вселенной. Не зная, с какой любезности начать, чтобы завязать беседу, я попросил у нее молока для утоления жажды. Потом я стал расспрашивать о ее деревне, о семье, спросил, сколько ей лет. На все вопросы она отвечала с простодушием, свойственным ее возрасту, и, так как у нее был очень красивый рот, она мне показалась весьма остроумной.
Я узнал, что она из ближней деревни и что ее зовут Алиной.
— Милая Алина, желал бы я быть вашим братом, — сказал я (и это было совсем не то, что мне хотелось сказать).
— А я желала бы быть вашей сестрой, — отвечала она.
— Ах, я люблю вас так, как если бы вы и были ею, — сказал я, обнимая ее.
Желая уклониться от моих ласк, Алина, обороняясь сделала резкое движение, кувшин упал, и молоко широкой струей хлынуло на дорожку. Она расплакалась и, стремительно вырвавшись из моих объятий, подхватила кувшин и бросилась прочь. Но на бегу ножка ее поскользнулась на залитой молоком тропинке, и она упала навзничь. Я кинулся ей на помощь, но напрасно: некая власть сильнее моей воли воспрепятствовала мне поднять ее и увлекла наземь и меня самого… Мне было пятнадцать лет, Алине — четырнадцать; и в эти-то лета и в этом месте подстерегла нас Любовь, чтобы преподать нам свои первые уроки. Слезы Алины сначала смутили мое блаженство, но ее огорчение вскоре уступило сладострастию, которое тоже вызвало ее слезы — и какие слезы! Тогда-то я поистине и познал наслаждение и с ним наслаждение еще более сильное — делить его с тем, кого любишь.
А время, переставшее, казалось, существовать для нас, шло своим чередом для остального мира. Солнце, склоняясь к закату, уже призывало пастухов в свои хижины, а стада — в свои загоны; в воздухе разносились звуки волынок и песни тружеников, идущих на отдых.
— Мне пора идти, — сказала Алина, — не то мать прибьет меня.
В те времена я еще почитал свою мать; у меня не хватило духу мешать Алине почитать свою.
— Пропало и мое молоко, и моя честь, — добавила она, — но я прощаю вам все.
— Полно! — сказал я. — Ты сама белее этого молока, а наслаждение стоит подороже чести.
Я отдал ей все серебро, что имел при себе, и золотое кольцо со своей руки — она обещала всегда хранить его. Мы оторвались друг от друга, и лица наши были влажны от слез и поцелуев. Я вскочил в седло и, насколько мог далеко, проводил глазами милую Алину. Затем простился с местами, освященными моими первыми наслаждениями, и вернулся в отцовский замок, сетуя, зачем я не простой крестьянин той деревни, где жила Алина.
Я порешил не ездить на охоту никуда, кроме той чудесной лощинки, и ради прекрасной Алины помиловать всю дичь нашей округи. Однако все эти намерения, столь дорогие моему сердцу, сразу разлетелись как дым. По приезде в замок я узнал, что неожиданное известие вынуждает моего отца ехать в Париж. Он взял меня с собою, Со слезами обнимал я мать, но плакал я об Алине.
Время сгложет и сталь, и любовь. Я был безутешен при отъезде — я утешился по приезде. По мере того как я удалялся от Алины, Алина уходила из моей души, и радость вступления в новый мир заставляла забывать отрады, испытанные в том мире, что я покидал. Разгульная жизнь и честолюбие вытеснили Алину из моего сердца. И вот после шести трудных кампаний, получив не одну тяжкую рану и лишь легковесное воздаяние, я вернулся в Париж, где старался на службе у красавиц вознаградить себя за все то, что претерпел на службе у государства.
Однажды, выходя из Оперы, я случайно оказался рядом с красивой дамой, поджидавшей карету. Внимательно оглядев меня, она спросила, не узнаю ли я ее. Я отвечал, что имею счастье видеть ее впервые.
— Посмотрите-ка получше, — сказала она.
— Приказ не тяжел, — ответил я. — Как не повиноваться такому личику? Но чем дольше я гляжу на вас, тем меньше сходства нахожу между всем виденным мною прежде и тем, что вижу сейчас.
— Раз черты моего лица не могут ничего напомнить вам, может быть, мои руки окажутся счастливее, — сказала дама.
И, сняв перчатку, она показала кольцо, когда-то подаренное мною милой Алине.
Изумление лишило меня дара речи. Подъехала ее карета. Она предложила мне место рядом с нею, я повиновался. Вот ее рассказ.
— Вы, наверное, помните мой молочный кувшин и все, что я потеряла вместе с ним. Вы не знали, что вы делали, а я и подавно. Но вскоре я поняла, что то был ребенок. Мать догадалась тоже и выгнала меня из дому. Я пошла побираться в соседний городок, там меня приютила одна старушка. Она заменяла мне мать, а я заменила ей племянницу. Она взяла на себя заботу наряжать меня и водить меня к людям: по ее приказу я часто повторяла то, чему вы научили меня. И так как вашим непосредственным преемником стал местный кюре, он унаследовал и вашего сына. Из него потом вышел очень красивый мальчик, и кюре определил его певчим в церковный хор. В надежде, что моя красота будет прибыльней для нее в большом городе, моя тетушка повезла меня в Париж, где, не раз переходя из рук в руки, я наконец досталась старому президенту, одному из первых вельмож в государстве по сану и одному из последних в отношении любви. Без бумажника, без парика и без сутаны он оказывался вовсе ничтожеством, но все-таки при том малом, что тогда оставалось от него, он любил меня до безумия и засыпал нас — тетушку и меня — деньгами и драгоценностями. Тетка умерла, я ей наследовала. У меня оказалось около двадцати тысяч ливров годового доходу и много денег наличными. Мне наскучило ремесло, которым я до сих пор занималась, и захотелось перейти к ремеслу порядочной женщины, в чем скуки тоже довольно. За несколько червонцев некий ученый генеалогист сделал из меня девушку достаточно почтенного дома. Знакомства, завязанные с литераторами, доставили мне репутацию умной женщины, а может быть, и впрямь прибавили немного ума. Наконец некий родовитый дворянин, имеющий больше ста тысяч доходу, решил хоть в слабой степени оплатить мои достоинства, женившись на мне, и бедная Алина стала для общества маркизой де Кастельмон; но для вас маркиза де Кастельмон хочет навсегда оставаться Алиной.
— А кого вы любили больше всех из тех, кого вы знали? — задал я вопрос.
— И вы можете спрашивать? — сказала она. — Я была простушкой, когда вы встретили меня; но я уже не была ею, когда встречалась с другими. Я начала наряжаться — ведь я уже не была столь красива, мне надо было нравиться, а любить я больше не могла. Искусственность портит все: под румянами бледнеют наши щеки, а чувства, нами изображаемые, охлаждают наши сердца. Я никого не любила, кроме вас. И хоть легко быть вернее меня, нельзя быть постоянней. Ваш образ, всегда возникающий предо мной, когда я вам изменяю, почти всегда отравляет всякое удовольствие. Признаюсь, впрочем, подчас он придает даже некоторую прелесть моим изменам.