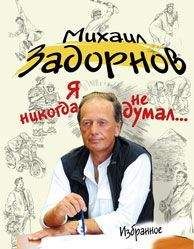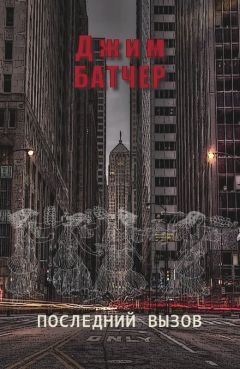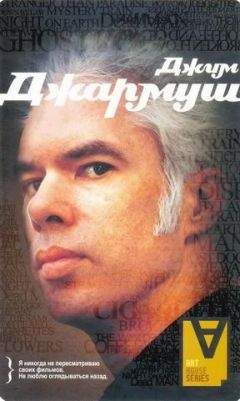Михаил Осоргин - Собрание сочинений. Т. 2. Старинные рассказы
За два дня до смерти послал напоминание гробовщику: держать гроб в чистоте и готовности, чтобы в углах не было пыли и стекла протерты. В последний раз заметил: как будто левая передняя ножка не то чтобы покривилась, а у гвоздика шляпка непрочна — так чтобы подправили.
И заснул навеки, с улыбкой и уверенностью, что все будет в порядке; в последнюю минуту по его лицу пробежала тень озабоченности: вот только бы дождя не случилось. Покосился потухающим взором на окно, — за окном сияло солнце, — и испустил дух спокойно.
И действительно, погода не подгадила Аполлону Андреевичу. Утром еще был легкий туман, но к точно указанному часу солнце засияло полностью, ручки и ножки гроба ярко заблестели; опустили его на чистых ярко-белых полотнищах, бортов ямы не задевши, — а уж что увидал он в свое окошечко и когда увидал, сейчас ли или много позже, — про то мы не знаем и допытываться не решаемся.
СТОЙКИЙ ДВОРЯНИН РАСЧЕТОВ
Однажды мы беседовали о проживавшем некогда в Москве «любителе смерти», состоятельном барине, являвшемся на все похороны, а бедняков хоронившем на свой счет. Для себя он заказал поистине образцовый гроб с материалом и отделкой, на всякий случай даже с окошечком, и любовно его хранил и холил до дня своей смерти.
Был в Москве и еще любитель похорон, по фамилии Доможиров, фигура историческая. Впрочем, он не ограничивался присутствием на похоронах, а вообще проявлял себя во всех случаях многолюдных церковных церемоний. Он был настолько неизбежен и настолько полезен, так умел всем распоряжаться, что его слушались и духовенство и полиция. Был ли то крестный ход, или водосвятие, или парадная свадьба, или проводы известного в городе лица в последнее жилище — первым являлся на место Доможиров, высокий пожилой человек в синем казакине, с саблей в металлических ножнах, с волосами, зачесанными назад и завязанными в пучок. Он становился на видном месте, или в самом храме, или перед ним, кратко и деловито отдавал приказания, указывал места и публике, и полицейским чинам, и родственникам покойников или брачащихся, давал знак для начала шествия, внимательно следил, чтобы не нарушался порядок и все было бы торжественно и благопристойно.
Никакого официального поста он никогда не занимал, был рядовым московским обывателем, и никто не был обязан его слушаться, — но все слушались и безропотно подчинялись его распоряжениям, всегда очень толковым. Он был, так сказать, некоронованным обер-полицеймейстером и держал власть с радостного дня ухода французов из опустошенной Москвы — до того печального дня, когда уже другое лицо распоряжалось на его собственных похоронах, очень скромных, в 1827 году. И нет сомнения, что на этих похоронах уже не было того образцового порядка и благочиния, которыми отличались религиозные ритуалы при его участии и руководстве.
Ни в чьей памяти не осталось биографии Доможирова; только в одном историческом журнале нам попалась заметка — чье-то воспоминание, приведенное историком, высказавшим, по-видимому, правильную мысль, что Доможиров проявил свой талант раньше, чем в Москве организовалась новая полиция, да так и остался в качестве признанной общественной необходимости. Подумать только: какой блестящий исторический материал для добросовестного юриста, занятого вопросами об источниках субъективного права!
Любопытно, что оба упомянутые нами добровольца ограничивали свои общественные склонности религиозно-обрядовой строгой жизнью, были людьми верующими и убежденными церковниками, при полнейшем личном бескорыстии. При некоторой доле фанатизма они были оба поэтами, один — красоты исчезновения, другой — прелести земного порядка. Но те же обывательские легенды отмеченные архивами и устными преданиями, дают нам и образ корыстного боголюбца, заключавшего с предметом своего культа довольно оригинальные договоры.
Таков был, например, дворянин Пал Палыч Расчетов, которого полнозвучно, Павлом Павловичем, никто не звал, а уж фамилия ему, ясное дело, была ниспослана свыше по его качествам. Он был тоже москвич, но эпохи несколько более поздней. Первые известия о нем мы имеем в связи со знаменитой холерной эпидемией 1831 года, когда страшная болезнь яростью нападения напомнила столице о Наполеоновом вторжении. Кто мог — бежал, кто не мог — умирал на улице; был народный бунт, были жертвы человеческого озлобленного отчаяния, сверкали пятки убежавшей от греха власти, заваливались кладбища трупами, была Москва при смерти, пособоровалась — и выжила.
В частности, то же самое случилось и с Пал Палычем Расчетовым, заболевшим в числе первых. А и поел-то он всего-навсего кислой капусты, которую, как человек истинно русский, любил до страсти покушать и в пост, и в скоромный день. Уж, кажется, от такого простого кушанья не должно бы ничего случиться с человеком, не забывшим перед обедом перекреститься! Капусту Пал Палыч любил поесть в качестве как бы особого блюда, и притом «с холодком», с ледяными иголочками, как приносят ее из хорошо льдом набитого погреба. Имевшим счастье пробовать ее в этом виде тщетно рассказывать об ее преимуществах, потому что они, конечно, знают, какой особый, несравнимый и неизъяснимый вкус придают ледяные иголочки ее натуральной прелести. И хотя на этот раз Пал Палыч ограничился одной глубокой тарелкой, якобы в преддверии жареной курицы, — но через два часа уже лежал пластом с таким ощущением, будто ноги его, от самых бедер до кончиков пальцев, были набиты мороженой капустой.
По тем временам медицина была, если это возможно, слабее нынешней, но еще не было, к счастью, всеобещающих патентованных лекарств, а рядовые обыватели старались в случаях особо опасных обходиться своими средствами. Сам Пал Палыч, почувствовав приступ ужасной болезни, успел отдать распоряжение, чтобы во всех комнатах затеплили перед иконами лампадки, у него же в спальне сверх того зажгли свечу перед ликом святого Николы Мирликийского[239], коему и дал обет, в случае счастливого выздоровления, спутешествовать пешком на богомолье. Это ли помогло или горячие бутылки, но в то время как несколько соседей Пал Палыча умерло в страшных мучениях, ему суждено было выжить, выполнить данный обет и много раз впоследствии убедиться в чрезвычайной выгодности добросовестно выполнять обязательства, принимаемые на себя при подобного рода соглашениях.
Итак, оправившись от болезни и выждав лета, Пал Палыч предпринял далекое путешествие в Николорадовицкий монастырь, что на Оке: кстати, там у него было поблизости небольшое имение, куда он наведывался весьма редко, так как дохода оно не приносило. Использовав поездку, он это имение продал, чем окупил расходы по поездке и по покупке полупудовой свечи Николе Мирликийскому, так сказать — сверх договора, в чаянии благ будущих. Затеплив перед иконою эту свечу, он рядом с ней положил написанное им на всякий случай на гербовой бумаге нижеследующее обещание:
«Святитель Никола, накажи, порази меня чем тебе будет угодно, если я в продолжение всей своей жизни стану когда-нибудь лечиться у докторов от каких бы то ни было приключившихся недугов, в чем и подписуюсь дворянин Павел Павлов сын Расчетов».
Этот обет Пал Палыч действительно выполнил; умер же он, как известно, подавившись бараньей косточкой, которая сама не выскочила, докторам же он вынимать ее не позволил. Впрочем, к тому времени он был уже достаточно старым.
При всей своей богобоязненности Пал Палыч был известен как страстный картежник. Как все игроки, он то выигрывал, то проигрывал, пока и в этом деле не прибег к испытанному средству. Рассказывала его экономка (он не был женат), что однажды, отправляясь в клуб, он целый час провел в молитве, кладя земные поклоны; по женскому любопытству, экономка подслушивала у двери и услыхала, как он со всем жаром убеждал своего покровителя Николу, спасшего его от холеры, помочь ему выиграть в карты. Он указывал ему, что в то время как другим людям хочется выиграть для того, чтобы потом эти деньги прокутить, он, Пал Палыч, обратит выигрыш на дела нужнейшие. Прежде всего, он заплатит проценты по закладной, если, конечно, нельзя сразу устроить так, чтобы вообще целиком уплатить долг и выкупить подмосковную деревушку начисто. В последнем случае он готов весь возможный остаток выигранной суммы пожертвовать на воспитательный дом. Однако, вовремя спохватившись, он изменил предложение и, как мы после увидим, сделал это весьма предусмотрительно. Он торжественно и в самых убедительных выражениях принес обещание, что лучше всего он даст на благотворительные дела ровнехонько десять процентов суммы, выигранной сверх насущно ему необходимой для приведения своих дел в полнейший порядок, причем, как добросовестный человек и делец, тут же эту сумму приблизительно вычислил и назвал. Сверх десяти процентов он обещал разного рода не очень ценные, но все же соблазнительные подарки, как неугасимую лампаду в одной из церквей на Арбате, кисейный покров на паникадило, столько-то и таких-то свечей и еще разные мелочи. Все это — при выигрыше не менее указанной суммы. В случае выигрышей менее значительных он предложил пока процентов от трех до пяти, так как деньги ему могут понадобиться на продолжение игры в тех же целях последней и окончательной победы, главным образом над купцом Бандаулиным, который будет сегодня в клубе и который вообще склонен в игре зарываться. Слушая его громкие причитания, экономка сначала думала, что он разговаривает с каким-то подлинным собеседником, так как уж очень обстоятельно он все это излагал; и только тогда поняла, в чем дело, когда донеслись до ее слуха весьма звучные удары лбом о крашеный пол, а порою и жалобные всхлипывания.