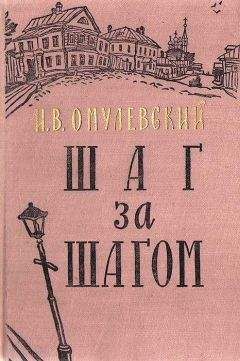Иннокентий Федоров-Омулевский - Шаг за шагом
-- Эвона! Статочное ли это дело? Да за что ж так? -- заговорили в один голос рабочие, сильно пораженные неожиданным заключением Бубнова.
-- А уж про то начальство ведает,-- пояснил он сурово.
-- Хороший, слышь... душа-человек был! -- грустно помянул кто-то добрым словом Светлова.
-- Известно, как есть человек был! -- с чувством отозвался другой.
-- Эко ты горе какое! -- пособолезновал третий, отходя немного в сторону и сморкаясь в полу своего дубленого полушубка.
Наступило общее затруднительное молчание.
Между тем к прежней кучке народа прибавилась понемногу новая; иные только что пришли. Праздничный, несколько щеголеватый наряд рабочих, резко противоречивший их печальным лицам, придавал этим последним какую-то особенную трогательную выразительность. Кто-то из новоприбывших -- должно быть, совсем недавно поступивший в школу -- подошел близехонько к двери флигеля и стал по складам разбирать негостеприимную надпись.
-- Да уж тепериче, брат, хоть читай -- не читай, а все не обучишься как следует,-- несколько шутливо заметил плохому чтецу разговорчивый плотник.
В другое время эта шутка, может быть, вызвала бы общий смех; но в настоящую минуту она раздалась как-то заупокойно среди безмолвствовавшей толпы.
-- Что ни толкуйте, господа честные, а уходить надо,-- заключительно обратился к рабочим Бубнов и сурово захлопнул за собой дверь.
-- И взаболь, что ж мы тут станем стоять без пути-то, братцы? Вали по домам! -- пригласил Савельич остальных.
Знакомый уже нам, широкий в кости кузнец неожиданно выступил на сцену.
-- А что, робята, ежели тепериче в острог к учителю сходить? -- спокойно предложил он, очевидно, готовый на эту смелую попытку.
-- Сичас видать, что кузнец: закалена, видно, шуба-то. Поди-ка ты какой бойкий! -- трусливо отозвался в толпе один тщедушный мастеровой, по-видимому из портных,
-- Учительская-то, чай, стоит твоих пятерых,-- возразил ему с сердцем кузнец.-- Туда же суется, мокрохвост поганый! -- прибавил он, добродушно захохотав, и плюнул в сторону.
Но народ по-прежнему не намерен был ни шутить, ни ссориться, безучастно выслушивая эти единичные выходки. Седая голова сторожа опять высунулась в дверь.
-- Уходите, уходите, господа честные! -- проговорил он внушительно.-- Ужо лучше завтре ввечеру понаведайся кто-нибудь сюда: может, вести какие придут от барина,-- окончательно заключил старик и снова захлопнул дверь.
Постояли, постояли рабочие, посмотрели как-то нерешительно -- сперва на темные окна флигеля, а потом друг на друга, и молча стали расходиться, уныло понурив свои недоучившиеся головы.
И им тоже, должно быть, как вчера Бубнову, чуялось что-то недоброе...
II СВЕТЛОВ В ОСТРОГЕ
Бубнов был, как говорится, не пророк, а угадчик: барин его действительно сидел в остроге. Эту тяжелую весть принес домой, на другой день утром, Василий Андреич, вернувшись от полицеймейстера. Но старик не вдруг сообщил ее жене; он прежде всего прошел молчаливо в свой кабинет, выкурил там трубки четыре залпом, все отговариваясь сильной усталостью, и потом уже, когда старушка неотступно пристала к нему с расспросами, объявил ей каким-то глухим, подавленным шепотом:
-- Александр-то ведь у нас... в остроге!
Ирина Васильевна так и грохнулась об пол.
-- Вот оно каково... матери-то!!.-- раздирающим душу голосом молвил Василий Андреич Оленьке, как-то растерянно-безнадежно стоя над распростершейся женою.
Девушка с криком кинулась в кухню за холодной водой.
Многих стоило усилий, чтоб привести в чувство несчастную, подавленную горем старушку; наконец, она слабо очнулась и мутными глазами обвела комнату. Может быть, никакие медицинские средства не подняли бы с полу в эту минуту Ирины Васильевны; но жгучее сознание, что ее сын -- ее дорогой Санька -- сидит в остроге, придало ей мгновенно, так сказать, сверхъестественные силы: старушка быстро вскочила на ноги.
-- Я сейчас... я сама к нему поеду!.. Бедный Санька!.. Отец!.. Оля!.. вели лошадь... поскорее!.. Ох, боже мой, боже мой!..-- твердила она, рыдая и порывисто переходя то от мужа к дочери, то наоборот.
Насилу, насилу удалось Василью Андреичу успокоить ее.
-- Ты прежде отдохни маленько, мать, а потом и поедешь... Да лучше бы тебе, однако, не ездить сегодня?.. а? Завтра бы лучше поехала?..-- мягко уговаривал он уложенную им в постель жену, натирая ей спиртом виски.
Ирина Васильевна только махнула нетерпеливо рукой.
-- Ну, ну... ладно, ладно!.. поезжай! только успокойся ты теперь-то, Христа ради, хошь на полчаса...-- поспешил согласиться старик.
Он, в эти полчаса, ухаживал за ней, как нянька.
Василий Андреич, изучивший до мельчайших подробностей характер и привычки своей жены, решительно не мог припомнить, чтоб она когда-нибудь так растерялась сразу -- до обморока; никогда еще не встречал в ней старик той покорной уступчивости, с какой Ирина Васильевна позволила ему перед тем уложить себя в постель,-- и он вдвойне глубоко почувствовал теперь, что настоящее испытание превышает все, что было безотрадного в их долгой кропотливо-трудовой жизни! Но ведь они уж доживают свой век; а что же будет с ним, с сыном? Что будет с этим человеком, который уже и теперь, в самом начале своего молодого, самостоятельного поприща является, так или иначе, арестантом острога?! Учиться столько лет... и для чего же? Чтоб смирнее сидеть потом за железной решеткой -- для того, что ли?! И откуда, зачем эта прыть, этот неугомонный риск, когда без них можно жить покойно и весело? Весело!.. Да весело ли, полно?
А те-то, давно позабытые им, Васильем Андреичем, люди... разве они не были так же покойны и веселы в далеком безлюдном захолустье?..
Приблизительно в таком именно роде, хотя в другой форме и большем объеме, проходили мысли в голове старика Светлова, пока отдыхала в постели его жена.
"Э-эх! не хватает у меня маленько чего-то..." -- тяжело и безнадежно подумал он, наконец, и заскреб у себя в голове.
Действительно, чтоб привести в порядок и уяснить себе эти мысли, чтоб разрешить победоносно все эти сомнения, Василью Андреичу не хватало немногого: ему недоставало одной, но зато громадной, всесокрушающей мировой силы -- знания!
Ирина Васильевна лежала недолго,-- по крайней мере не больше того времени, какое назначил ей наудачу сам муж: стремление к немедленной деятельности в пользу сына, мысль, что ее милый Санька, может быть, болен и сам от испуга, опять подняли на ноги старушку; она тотчас же собралась ехать к нему.
-- А... ты, отец?..-- нерешительно обратилась Ирина Васильевна к мужу, уже надевая в передней салоп.
Василий Андреич, до сих пор так нежно ухаживавший за ней, нахмурился вдруг, как туча.
-- Я ничего не забыл в остроге,-- сказал он отрывисто и сурово,-- да и нашего роду там не было.
-- Ну, отец, бог с тобой! только на том уж свете ты, батюшка, за эти слова разделаешься...-- вся в слезах заметила ему старушка.
Василий Андреич молча стоял перед женой, не поднимая на нее глаз.
-- И не жалко тебе Саньку-то?..-- продолжала она все так же нерешительно.-- Тебе-то он чего сделал? Ну-ка бы тебя самого посадили безвинно?.. Побойся ты хоть бога-то, отец!..
Старика подергивало как на горячих угольях.
-- Сказал, что не поеду -- и не поеду! -- наотрез объявил он, наконец, сильно дрожавшим от волнения, но решительным голосом и тотчас же ушел к себе в кабинет.
Ирина Васильевна, скрепя сердце, съездила одна, но неудачно: ее не допустили до сына без письменного разрешения прокурора,-- в сумятице горя Василий Андреич совсем позабыл об этой неизбежной формальности. Уже подъезжая к самому дому, сани старушки неожиданно встретились с санями Прозоровой; кучер последней прямехонько правил в светловские ворота, так что нетерпеливой хозяйке пришлось обождать, пока ее гостья въедет во двор. У крыльца обе дамы сошлись. Бледное, встревоженное лицо Светловой, ее заплаканные глаза -- разом подтвердили Лизавете Михайловне горькую истину, которую за час перед тем пришлось ей узнать от мужа.
-- Правда ли... что я слышала?..-- тревожно спросила она, протягивая руку старушке.
Ирина Васильевна, до сих пор довольно холодно относившаяся к Прозоровой, теперь, в каком-то особенном непонятном самой ей порыве, бросилась со слезами на шею гостье: в несчастии, говорят, люди становятся симпатичнее друг к другу. Они обнялись и поцеловались. Старушка тут же, на крыльце, в немногих, хватающих за сердце словах передала Лизавете Михайловне и свое горе и свою горькую неудачу.
-- Идите, отдохните пока, успокойтесь, Ирина Васильевна,-- мягко, но решительно сказала ей Прозорова,-- я сейчас сама съезжу к прокурору.
Светлова даже не успела еще и опомниться хорошенько от этих ласковых слов, как уже сани Лизаветы Михайловны бойко выезжали за ворота.