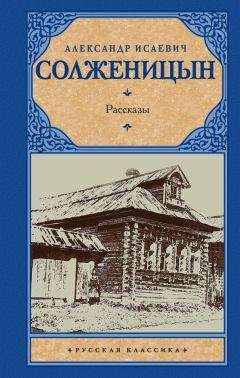Александр Солженицын - В круге первом (т.2)
На этих листках были тезисно изложены кое-какие факты и мысли из сожжённых сегодня.
Шмон был закончен, все двадцать зэков загнаны в пустую ожидальню со своими разрешёнными к увозу вещами, дверь за ними затворилась и, в ожидании воронка, к двери был приставлен часовой. Ещё другой надзиратель был наряжен ходить под окнами, скользя по обледенице, и отгонять провожающих, если они появятся в обеденный перерыв. Так все связи двадцати отъезжающих с двумястами шестьюдесятью одним остающимся были разорваны.
Этапируемые ещё были здесь, но уже их и не было здесь.
Сперва, заняв как попало места на своих вещах и на скамьях, они все молчали.
Они додумывали каждый о шмоне: что было отнято у них и что удалось пронести.
И о шарашке: что за блага терялись на ней, и какая часть срока была прожита на ней, и какая часть срока осталась.
Заключённые — любители пересчитывать время: уже потерянное и впредь обречённое к утрате.
Ещё они думали о родных, с которыми не сразу установится связь. И что опять придётся просить у них помощи, ибо ГУЛаг — такая страна, где взрослый мужчина, работая в день по двенадцать часов, неспособен прокормить сам себя.
Думали о промахах или о своих сознательных решениях, приведших к этому этапу.
О том, куда же зашлют? Что ждёт на новом месте? И как устраиваться там?
У каждого по-своему текли мысли, но все они были невеселы.
Каждому хотелось утешения и надежды.
Поэтому когда возобновился разговор, что, может быть, их вовсе не в лагерь шлют, а на другую шарашку, — даже те, кто совсем в это не верили — прислушались.
Ибо и Христос в Гефсиманском саду, твердо зная свой горький выбор, всё ещё молился и надеялся.
Чиня ручку своего чемодана, всё время срывающуюся с крепления, Хоробров громко ругался:
— Ну, собаки! Ну, гады! Простого чемодана — и того у нас сделать не могут! Полгода предмайская вахта, полгода предоктябрьская, когда же поработать без лихорадки? Ведь вот какая-то сволочь рационализацию внесла: дужку двумя концами загнут и всунут в ручку. Пока чемодан пустой — держит, а — нагрузи? Развили тяжёлую индустрию, драть её лети, так что последний николаевский кустарь от стыда бы сгорел.
И кусками кирпича, отваленного от печки, выложенной тем же скоростным методом, Хоробров зло сбивал концы дужки в ушко.
Нержин хорошо понимал Хороброва. Всякий раз сталкиваясь с унижением, пренебрежением, издевательством, наплевательством, Хоробров разъярялся — но как об этом было рассуждать спокойно? Разве вежливыми словами выразишь вой ущемлённого? Именно сейчас, облачась в лагерное и едучи в лагерь, Нержин и сам ощущал, что возвращается к важному элементу мужской свободы: каждое пятое слово ставить матерное.
Ромашов негромко рассказывал новичкам, какими дорогами обычно возят арестантов в Сибирь и, сравнивая куйбышевскую пересылку с горьковской и кировской, очень хвалил первую.
Хоробров перестал стучать и в сердцах швырнул кирпичом об пол, раздробляя в красную крошку.
— Слышать не могу! — закричал он Ромашову, и худощавое жёсткое лицо его выразило боль. — Горький не сидел на той пересылке и Куйбышев не сидел, иначе б их на двадцать лет раньше похоронили. Говори как человек: самарская пересылка, нижегородская, вятская! Уже двадцатку отбухал, чего к ним подлизываешься!
Задор Хороброва передался Нержину. Он встал, через часового вызвал Наделашина и полнозвучно заявил:
— Младший лейтенант! Мы видим в окно, что уже полчаса, как идёт обед. Почему не несут нам?
Младшина неловко стоптался и сочувственно ответил:
— Вы сегодня… со снабжения сняты…
— То есть, как это сняты? — И слыша за спиной гул поддерживающего недовольства, Нержин стал рубить:
— Доложите начальнику тюрьмы, что без обеда мы никуда не поедем! И силой посадить себя — не дадимся!
— Хорошо, я доложу! — сейчас же уступил младшина. И виновато поспешил к начальнику.
Никто в комнате не усомнился, стоит ли связываться. Брезгливое чаевое благородство зажиточных вольняшек — дико зэкам.
— Правильно!
— Тяни их!
— Зажимают, гады!
— Крохоборы! За три года службы один обед пожалели!
— Не уедем! Очень просто! Что они с нами сделают?
Даже те, кто был повседневно тих и смирен с начальством, теперь расхрабрился. Вольный ветер пересыльных тюрем бил в их лица. В этом последнем мясном обеде было не только последнее насыщение перед месяцами и годами баланды — в этом последнем мясном обеде было их человеческое достоинство. И даже те, у кого от волнения пересохло горло, кому сейчас невмоготу было есть, — даже те, позабыв о своей кручине, ждали и требовали этого обеда.
Из окна видна была дорожка, соединяющая штаб с кухней. Видно было, как к дровопилке задом подошёл грузовик, в кузове которого просторно лежала большая ёлка, перекинувшись через борта лапами и вершинкой. Из кабины вышел завхоз тюрьмы, из кузова спрыгнул надзиратель.
Да, подполковник держал слово. Завтра-послезавтра ёлку поставят в полукруглой комнате, арестанты-отцы, без детей сами превратившиеся в детей, обвесят её игрушками (не пожалеют казённого времени на их изготовление), клариной корзиночкой, ясным месяцем в стеклянной клетке, возьмутся в круг, усатые, бородатые и, перепевая волчий вой своей судьбы, с горьким смехом закружатся:
В лесу родилась ёлочка, В лесу она росла…
Видно было, как патрулирующий под окнами надзиратель отгонял Прянчикова, пытавшегося прорваться к осаждённым окнам и кричавшего что-то, воздевая руки к небесам.
Видно было, как младшина озабоченно просеменил на кухню, потом в штаб, опять на кухню, опять в штаб.
Ещё было видно, как, не дав Спиридону дообедать, его пригнали разгружать ёлку с грузовика. Он на ходу вытирал усы и перепоясывался.
Младшина, наконец, не пошёл, а почти пробежал на кухню и вскоре вывел оттуда двух поварих, несших вдвоём бидон и поварёшку. Третья женщина несла за ними стопу глубоких тарелок. Боясь поскользнуться и перебить их, она остановилась. Младшина вернулся и забрал у неё часть.
В комнате возникло оживление победы.
Обед появился в дверях. Тут же, на краю стола, стали разливать суп, зэки брали тарелки и несли в свои углы, на подоконники и на чемоданы. Иные приспосабливались есть стоя, грудью привалясь к столу, не обставленному скамейками.
Младшина с раздатчицами ушли. В комнате наступило то настоящее молчание, которое и всегда должно сопутствовать еде. Мысли были: вот наварный суп, несколько жидковатый, но с ощутимым мясным духом; вот эту ложку, и ещё эту, и ещё эту с жировыми звёздочками и белыми разваренными волокнами я отправляю в себя; тёплой влагой она проходит по пищеводу, опускается в желудок — а кровь и мускулы мои заранее ликуют, предвидя новую силу и новое пополнение.
«Для мяса люди замуж идут, для щей женятся» — вспомнил Нержин пословицу. Он понимал эту пословицу так, что муж, значит, будет добывать мясо, а жена — варить на нём щи. Народ в пословицах не лукавил и не выкорчивал из себя обязательно высоких стремлений. Во всём коробе своих пословиц народ был более откровенен о себе, чем даже Толстой и Достоевский в своих исповедях.
Когда суп подходил к концу и алюминиевые ложки уже стали заскребать по тарелкам, кто-то неопределённо протянул:
— Да-а-а…
И из угла отозвались:
— Заговляйся, братцы!
Некий критикан вставил:
— Со дна черпали, а не густ. Небось, мясо-то себе выловили.
Ещё кто-то уныло воскликнул:
— Когда теперь доживём и такого покушать!
Тогда Хоробров стукнул ложкой по своей выеденной тарелке и внятно сказал с уже нарастающим протестом в горле:
— Нет, друзья! Лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой!
Ему не ответили. Нержин стал стучать и требовать второго.
Тотчас же явился младшина.
— Покушали? — с приветливой улыбкой оглядел он этапируемых. И убедясь, что на лицах появилось добродушие, вызываемое насыщением, объявил то, чего тюремная опытность подсказала ему не открывать раньше: — А второго не осталось. Уж и котёл моют. Извините.
Нержин оглянулся на зэков, сообразуясь, буянить ли. Но по русской отходчивости все уже остыли.
— А что на второе было? — пробасил кто-то.
— Рагу, — застенчиво улыбнулся младшина.
Вздохнули.
О третьем как-то и не вспомнили.
За стеной послышалось фырканье автомобильного мотора. Младшину кликнули
— и вызволили этим. В коридоре раздался строгий голос подполковника Климентьева.
Стали выводить по одному.
Переклички по личным делам не было, потому что свой шарашечный конвой должен был сопровождать зэков до Бутырок и сдавать лишь там. Но — считали. Отсчитывали каждого совершающего столь знакомый и всегда роковой шаг с земли на высокую подножку воронка, низко пригнув голову, чтобы не удариться о железную притолоку, скрючившись под тяжестью своих вещей и неловко стукаясь ими о боковые стенки лаза.