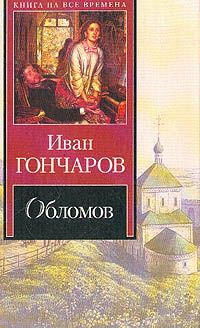Иван Гончаров - Обломов
Все погрузилось в сон и мрак около него. Он сидел, опершись на руку, не замечал мрака, не слыхал боя часов. Ум его утонул в хаосе безобразных, неясных мыслей; они неслись, как облака в небе, без цели и без связи, — он не ловил ни одной.
Сердце было убито: там на время затихла жизнь. Возвращение к жизни, к порядку, к течению правильным путем скопившегося напора жизненных сил совершалось медленно.
Прилив был очень жесток, и Обломов не чувствовал тела на себе, не чувствовал ни усталости, никакой потребности. Он мог лежать, как камень, целые сутки или целые сутки идти, ехать, двигаться, как машина.
Понемногу, трудным путем выработывается в человеке или покорность судьбе — и тогда организм медленно и постепенно вступает во все свои отправления, — или горе сломит человека, и он не встанет больше, смотря по горю, и по человеку тоже.
Обломов не помнил, где он сидит, даже сидел ли он: машинально смотрел и не замечал, как забрезжилось утро; слышал и не слыхал, как раздался сухой кашель старухи, как стал дворник колоть дрова на дворе, как застучали и загремели в доме, видел и не видал, как хозяйка и Акулина пошли на рынок, как мелькнул пакет мимо забора.
Ни петухи, ни лай собаки, ни скрип ворот не могли вывести его из столбняка. Загремели чашки, зашипел самовар.
Наконец часу в десятом Захар отворил подносом дверь в кабинет, лягнул, по обыкновению, назад ногой, чтоб затворить ее, и, по обыкновению, промахнулся, но удержал, однако ж, поднос: наметался от долговременной практики, да притом знал, что сзади смотрит в дверь Анисья, и только урони он что-нибудь, она сейчас подскочит и сконфузит его.
Он благополучно дошел, уткнув бороду в поднос и обняв его крепко, до самой постели, и только располагал поставить чашки на стол подле кровати и разбудить барина — глядь, постель не измята, барина нет!
Он встрепенулся, и чашка полетела на пол, за ней сахарница. Он стал ловить вещи на воздухе и качал подносом, другие летели. Он успел удержать на подносе только ложечку.
— Что это за напасть такая? — говорил он, глядя, как Анисья подбирала куски сахару, черепки чашки, хлеб. — Где же барин?
А барин сидит в кресле, и лица на нем нет. Захар посмотрел на него с разинутым ртом.
— Вы зачем это, Илья Ильич, всю ночь просидели в кресле, не ложились? — спросил он.
Обломов медленно обернул к нему голову, рассеянно посмотрел на Захара, на разлитый кофе, на разбросанный по ковру сахар.
— А ты зачем чашку-то разбил? — сказал он, потом подошел к окну.
Снег валил хлопьями и густо устилал землю.
— Снег, снег, снег! — твердил он бессмысленно, глядя на снег, густым слоем покрывший забор, плетень и гряды на огороде. — Все засыпал! — шепнул потом отчаянно, лег в постель и заснул свинцовым, безотрадным сном. Уж было за полдень, когда его разбудил скрип двери с хозяйской половины; из двери просунулась обнаженная рука с тарелкой; на тарелке дымился пирог.
— Сегодня воскресенье, — говорил ласково голос, — пирог пекли; не угодно ли закусить?
Но он не отвечал ничего: у него была горячка.
Часть четвертая
I
Год прошел со времени болезни Ильи Ильича. Много перемен принес этот год в разных местах мира: там взволновал край, а там успокоил; там закатилось какое-нибудь светило мира, там засияло другое; там мир усвоил себе новую тайну бытия, а там рушились в прах жилища и поколения. Где падала старая жизнь, там, как молодая зелень, пробивалась новая…
И на Выборгской стороне, в доме вдовы Пшеницыной, хотя дни и ночи текут мирно, не внося буйных и внезапных перемен в однообразную жизнь, хотя четыре времени года повторили свои отправления, как в прошедшем году, но жизнь все-таки не останавливалась, все менялась в своих явлениях, но менялась с такою медленною постепенностью, с какою происходят геологические видоизменения нашей планеты: там потихоньку осыпается гора, здесь целые века море наносит ил или отступает от берега и образует приращение почвы.
Илья Ильич выздоровел. Поверенный Затертый отправился в деревню и прислал вырученные за хлеб деньги сполна и был из них удовлетворен прогонами, суточными деньгами и вознаграждением за труд.
Что касается оброка, то Затертый писал, что денег этих собрать нельзя, что мужики частью разорились, частью ушли по разным местам и где находятся — неизвестно, и что он собирает на месте деятельные справки.
О дороге, о мостах писал он, что время терпит, что мужики охотнее предпочитают переваливаться через гору и через овраг до торгового села, чем работать над устройством новой дороги и мостов.
Словом, сведения и деньги получены удовлетворительные, и Илья Ильич не встретил крайней надобности ехать сам и был с этой стороны успокоен до будущего года.
Поверенный распорядился и насчет постройки дома: определив, вместе с губернским архитектором, количество нужных материалов, он оставил старосте приказ с открытием весны возить лес и велел построить сарай для кирпича, так что Обломову оставалось только приехать весной и, благословясь, начать стройку при себе. К тому времени предполагалось собрать оброк и, кроме того, было в виду заложить деревню, следовательно, расходы было из чего покрыть.
После болезни Илья Ильич долго был мрачен, по целым часам повергался в болезненную задумчивость и иногда не отвечал на вопросы Захара, не замечал, как он ронял чашки на пол и не сметал со стола пыль, или хозяйка, являясь по праздникам с пирогом, заставала его в слезах.
Потом мало-помалу место живого горя заступило немое равнодушие. Илья Ильич по целым часам смотрел, как падал снег и наносил сугробы на дворе и на улице, как покрыл дрова, курятники, конуру, садик, гряды огорода, как из столбов забора образовались пирамиды, как все умерло и окуталось в саван.
Подолгу слушал он треск кофейной мельницы, скаканье на цепи и лай собаки, чищенье сапог Захаром и мерный стук маятника.
К нему по-прежнему входила хозяйка, с предложением купить что-нибудь или откушать чего-нибудь; бегали хозяйские дети: он равнодушно-ласково говорил с первой, последним задавал уроки, слушал, как они читают, и улыбался на их детскую болтовню вяло и нехотя.
Но гора осыпалась понемногу, море отступало от берега или приливало к нему, и Обломов мало-помалу входил в прежнюю нормальную свою жизнь.
Осень, лето и зима прошли вяло, скучно. Но Обломов ждал опять весны и мечтал о поездке в деревню.
В марте напекли жаворонков, в апреле у него выставили рамы и объявили, что вскрылась Нева и наступила весна.
Он бродил по саду. Потом стали сажать овощи в огороде; пришли разные праздники, Троица, семик, первое мая; все это ознаменовалось березками, венками; в роще пили чай.
С начала лета в доме стали поговаривать о двух больших предстоящих праздниках: Иванове дне, именинах братца, и об Ильине дне — именинах Обломова: это были две важные эпохи в виду. И когда хозяйке случалось купить или видеть на рынке отличную четверть телятины или удавался особенно хорошо пирог, она приговаривала: «Ах, если б этакая телятина попалась, или этакий пирог удался в Иванов или в Ильин день!»
Поговаривали об Ильинской пятнице и о совершаемой ежегодно на Пороховые Заводы прогулке пешком, о празднике на Смоленском кладбище, в Колпине.
Под окнами снова раздалось тяжелое кудахтанье наседки и писк нового поколения цыплят; пошли пироги с цыплятами и свежими грибами, свежепросольные огурцы; вскоре появились и ягоды.
— Потроха уж теперь нехороши, — сказала хозяйка Обломову, — вчера за две пары маленьких просили семь гривен, зато лососина свежая есть: ботвинью хоть каждый день можно готовить.
Хозяйственная часть в доме Пшеницыной процветала, не потому только, что Агафья Матвеевна была образцовая хозяйка, что это было ее призванием, но и потому еще, что Иван Матвеевич Мухояров был, в гастрономическом отношении, великий эпикуреец. Он был более нежели небрежен в платье, в белье: платье носил по многим годам и тратил деньги на покупку нового с отвращением и досадой, не развешивал его тщательно, а сваливал в угол, в кучу. Белье, как чернорабочий, менял только в субботу; но что касалось стола, он не щадил издержек.
В этом он отчасти руководствовался своей собственной, созданной им, со времени вступления в службу, логикой: «Не увидят, что в брюхе, — и толковать пустяков не станут; тогда как тяжелая цепочка на часах, новый фрак, светлые сапоги — все это порождает лишние разговоры».
От этого на столе у Пшеницыных являлась телятина первого сорта, янтарная осетрина, белые рябчики. Он иногда сам обходит и обнюхает, как легавая собака, рынок или Милютины лавки, под полой принесет лучшую пулярку, не пожалеет четырех рублей на индейку.
Вино он брал с биржи и прятал сам, и сам доставал; но на столе никогда никто не видал ничего, кроме графина водки, настоенной смородинным листом; вино же выпивалось в светлице.