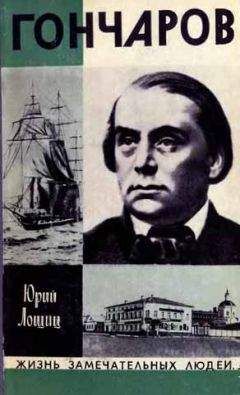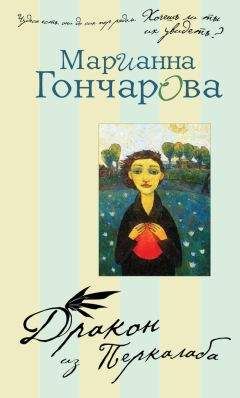Юлий Айхенвальд - Гончаров

Обзор книги Юлий Айхенвальд - Гончаров
Юлий Исаевич Айхенвальд
Гончаров
Одно из литературных мнений Чехова выражено в таких словах: «Между прочим, читаю Гончарова и удивляюсь. Удивляюсь себе: за что я до сих пор считал Гончарова первоклассным писателем? Его Обломов совсем не важная штука. Сам Илья Ильич, утрированная фигура, не так уже крупен, чтобы из-за него стоило писать целую книгу. Обрюзглый лентяи, каких много, натура не сложная, дюжинная, мелкая; возводить сию персону в общественный тип – это дань не по чину. Я спрашиваю себя: если бы Обломов не был лентяем, то чем бы он был? И отвечаю: ничем. А коли так, то и пусть себе дрыхнет… Остальные лица… эпохи не характеризуют и нового ничего не дают… Ольга сочинена… А главная беда – во всем романе холод, холод, холод… Вычеркиваю Гончарова из списка моих полубогов».
Русская литература этому примеру, конечно, не последует и в лучших списках своих имя Гончарова оставит. Но есть какая-то разумная необходимость в таком отношении автора «Оврага» к автору «Обрыва»: здесь вообще новелла отрицает роман. Гончаров и Чехов формою своих произведений – антиподы; ведь первый, мастер большого стиля, строитель большой книги, отнесся бы неодобрительно ко второму, художнику изящной миниатюры. «Писать талантливо, т. е. коротко» – на этот афоризм Чехова обиделся бы Гончаров. И односторонней правотою был бы он прав (а всесторонней правоты вообще не бывает), и Чехова можно было бы опровергнуть, просто указав рукою на зодчего грандиозных построек – Толстого, перед которым благоговел и сам защитник эстетической экономии, писатель маленьких рассказов. Верно только то, что доводом против Чехова могли бы, действительно, послужить словесные чертоги, русские Пропилеи «Войны и мира», но не «Обломов» и «Обрыв». Пространность оправдана Толстым, а не Гончаровым. Последний в самом деле выказал себя не сильным в художественной архитектонике: нет у него прекрасной скупости, рисунка, линий, нет сжатости и энергии – многое в его романах расплывчато и мучнисто, растянуто и длинно, зыбко и рыхло, как дрожжи. И понятно, что это должно было отталкивать Чехова, извлекавшего из жизни квинтэссенцию, от своих немногих страниц требовавшего сгущенной содержательности.
Но, разумеется, свою архитектурную нестройность творчество Гончарова слишком искупает другими чертами.
Незадолго до смерти, называя себя «близким кандидатом в покойники», он задушевно просил, во имя своего честного служения перу, чтобы не нарушали его последней воли, не печатали его личной переписки и судили о нем только по его литературным произведениям. Он хотел отойти в потомство исключительно как автор, как творец «Обломова» и «Обрыва»; он хотел, чтобы мерилом его оценки служили не мимолетные изъяснения случайных писем! а то, что он обдумывал целыми годами и во что вложил свою душу, свои творческие замыслы!
Исполнить эту естественную и психологически-законную волю следовало бы даже и в том случае, если бы она набрасывала покров на интересные черты для его характеристики. Но в действительности этого нет: умственная и нравственная физиономия Гончарова ясно отразилась в его художественных творениях, и нам вовсе не нужна его переписка, для того чтобы знать, кто он. В заключительной главе «Обломова» мы видим даже его внешность: перед нами является «литератор, полный, с апатическим лицом, задумчивыми, как будто сонными, глазами». А в том классическом и для всех открытом письме, которое представляет собою «Фрегат „Паллада“», он много рассказывает о себе о своей жизни и на картины чужой природы, на описание всего путешествия налагает яркий отпечаток своей личности. Он смотрит на нас из своих произведений, так что мы можем прочесть не только их, но и его самого; он дает нам внутреннюю автобиографию.
Тем разительнее то глубокое недоразумение, в силу которого Гончарова нередко называют писателем объективным: таков эпитет, какой издавна придавали ему русские критики. Между тем в свои романы Гончаров свою натуру перенес всецело и нисколько не отрешался от себя, когда живописал других. У него и в помине нет той строгой объективности, которая подавляет в художнике его сочувствия и неприязни и без всякого заметного посредничества ставит нас лицом к лицу с жизнью и людьми. Мы слишком ясно видим, кого и что Гончаров любит, кому он отказывает в своей симпатии; например, рисуя фигуры Волохова и Тушина, он не скрывает, к которой из них лежит его сердце; он явно разделяет «бабушкину мораль», и не писатель-объективист провожает Веру в обрыв этой лирической мольбою: «Боже, прости ее, что она обернулась!» Такой же лиризм – конечно, спокойный – сказывается у него в описании любви Адуева и Наденьки и на многих других страницах. Гончаров необычайно субъективен в произведениях своего пера, он и не пытается достигнуть писательского беспристрастия и даже, не умея индивидуализировать слога, заставляет свои персонажи говорить пластическим языком самого автора: ведь молодой Адуев и Райский, Штольц в своих последних беседах с Ольгой, Обломов в своих тирадах против столичной жизни – все они выражаются одинаково, и все они употребляют те же красивые, стройные, образные фразы, какие спокойно и медлительно текут из уст самого писателя на тех его многочисленных страницах, где он прерывает ток непосредственного действия для своих рассуждений и характеристик. Иногда гончаровская речь или отдельная фраза, неосторожно вложенная в уста какого-нибудь героя, даже резко поражает своим несоответствием говорящему лицу; вспомните, например, как Татьяна Марковна в «Обрыве» определяет остроту: «острота фальшива, принарядится красным словцом, смехом, ползет, как змей, в уши, норовит подкрасться к уму и помрачить его» – разве это бабушкины речи?
Если возникла все-таки по отношению к Гончарову иллюзия объективного творчества, то это объясняется тем, что его книги спокойны, что, судя по ним, внутренний мир его, которого он ничем и не старался заслонить, тих и созерцателен, сторонится огня и страсти, жизнь переносит легко и окрашивает ее в светлые и мирные цвета. Но ведь не это, конечно, называется художественной объективностью. Не дадим себя убаюкать невозмутимому красноречию Гончарова, от которого он щедро уделяет и своим героям; рассеем чары этого плавного, слишком плавного стиля, который напоминает комнату с мягкой мебелью и портьерами, устланную пушистыми коврами, где лежит на диване милый Илья Ильич, где скрадывается бесцеремонный шум жизненных шагов, умеряются диссонансы и волнения страстей.
И вот, вглядываясь в Гончарова, поскольку он отразился в своих романах, мы видим, что он никогда не спешит, никуда не торопится, что это – организация внутренне-оседлая, привязанная к данному укладу жизни, хотя во имя высокого идеала, во имя нравственной красоты, и осуждающая в себе эту цепкую привязанность и привязчивость. Затаенное, но сказывающееся в юморе борение двух моментов, центростремительного я центробежного, столкновение домоседа и путешественника – вот что характеризует Гончарова. Конечно, эта разладица и двойственность в большей или меньшей степени свойственна каждому человеческому существу, но у нашего писателя она приобретает особую силу и значительность, потому что начало центростремительное, земное «жизни тяготенье», не только досталось ему в прочное, неизбежное наследство от целого ряда домовитых поколений, но и нашло себе в его собственном сердце исключительно благодарную, хотя уже и облагороженную почву. И потому Гончаров прежде всего – несравненный мастер жанра, и в этой сфере заключается его главная сила, сюда принадлежат его лучшие страницы. Художник-хозяин, он любит человека в его домашней обстановке, в кругу разнообразных мелочей повседневного, мирно текущего быта, среди вещей уютного родного угла. Он – поэт комнаты, певец дома; его привлекает какое-нибудь село. Грачи или маленький сонный городок и его незатейливые домики с мезонинами и садиками, где живут хотя и сонные, но все-таки милые человеческие души, где он встречает женщину, «весь век проведшую в своем переулке, без суматохи, без страстей и волнений». Он с наслаждением рисует nature morte и тех, кто близок к ней по несложности своего психического мира, – коллекцию слуг, Агафью Матвеевну, самой природой венчанную на царство в хозяйстве, или простодушную Марфиньку. Его занимает жизнь светлая, открытая, – прозрачные дома и души. Ему близка, ему дорога Обломовка, где царит природа прирученная, где небо приближено к земле и сама поэтическая луна очень походит на медный вычищенный таз, – Обломовка во всех ее видах и оттенках; и Гончаров сам говорит, что унес ее почву с собою в тропические страны и там вспоминал ее тишину, ее волжские пейзажи. В русской литературе он является художником фламандской школы: его тешит ее «пестрый сор», его интересует самый обряд жизни, и, поэт обыденности, он умеет извлекать теплоту и радость из хозяйственной прозы. Он освещает ее ласковым огоньком своего добродушного юмора, который распространяет и на самого себя: Гончаров сознает свою врожденную слабость к вещам, к комфорту, к порядку, ради которого отвергается даже величавое и грозное зрелище бури в океане, – он сознает ее и посмеивается над нею, далекий от всякого педантизма, несклонный возводить свое удобство в неприкосновенный догмат. Ибо здесь начинает уже свою работу второе начало его духа – центробежное. Он любит свой кабинет под надежной кровлей, свое покойное кресло; но в нем живут и мечты путешественника, в нем свежи и пленительны впечатления от рассказов моряка Якубова. И когда проснулись в нем эти мечты, эти спящие царевны, его, казалось бы, упорного домоседа, позвали к себе даже не края соседней Европы: ему чудятся «Азия, мир праотца Адама, юная Колумбова земля», его манят «пловучие наезды»