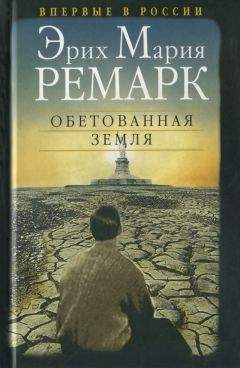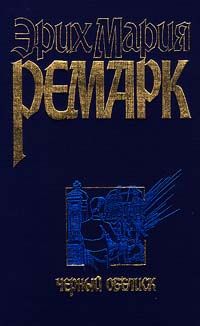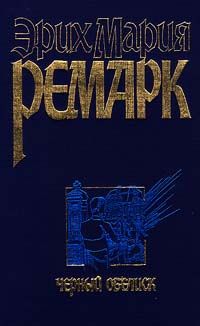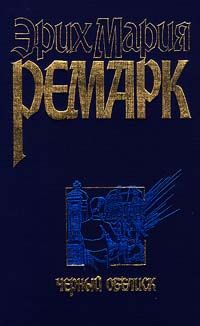Эрих Ремарк - Земля обетованная
— Последний жизнерадостный эмигрант. Но и ему оптимизм нелегко дается.
Равич выпил свой ром залпом. Потом посмотрел в окно.
— Сумеречный час, — сказал он. — Crepuscule[44]. Час теней, когда человек остается один на один со своим жалким «я» или тем, что от него осталось. Час, когда умирают больные.
— Что-то ты уж больно печален, Равич. Случилось что-нибудь?
— Я не печален. Подавлен. Пациент умер прямо на столе. Казалось бы, пора уже привыкнуть. Так нет. Сходи к Джесси. Нужно ее поддержать. Постарайся ее рассмешить. На что тебе сдались эти сладкоежки?
— А тебе?
— Я зашел за Робертом Хиршем. Хотим пойти в бистро поужинать. Как в Париже. Это Георг Камп, который писатель?
Я кивнул.
— Последний оптимист. Отважный и наивный чудак.
— Отвага! — хмыкнул Равич. — Я готов заснуть на много лет, лишь бы проснуться и никогда больше не слышать этого слова. Одно из самых испохабленных слов на свете. Прояви-ка вот отвагу и сходи к Джесси. Наври ей с три короба. Развесели ее. Это и будет отвага.
— А врать ей обязательно? — спросил я.
Равич кивнул.
* * *
— Давай куда-нибудь сходим, — сказал я Марии. — Куда-нибудь, где будет весело, беззаботно и непритязательно. А то я оброс печалью и смертями, как вековое дерево мхом. Премия от Реджинальда Блэка все еще при мне. Давай сходим в «Вуазан» поужинать.
Мария устремила на меня невеселый взгляд.
— Я сегодня ночью уезжаю, — сказала она. — В Беверли-Хиллз. Съемки и показ одежды в Калифорнии.
— Когда?
— В полночь. На несколько дней. У тебя хандра?
Я покачал головой. Она втянула меня в квартиру.
— Зайди в дом, — сказала она. — Ну что ты стал в дверях? Или ты сразу же хочешь уйти? Как же мало я тебя знаю!
Я прошел за ней в сумрак комнаты, слабо освещенный только окнами небоскребов, как полотно кубистов. Неподвижный, очень бледный полумесяц повис в проплешине блеклого неба.
— А может, все-таки сходим в «Вуазан»? — спросил я. — Чтобы сменить обстановку?
Она внимательно посмотрела на меня.
— Случилось что-нибудь? — спросила Мария.
— Да нет. Просто какое-то вдруг чувство ужасной беспомощности. Бывает иногда. Все этот бесцветный час теней. Пройдет, когда будет светло.
Мария щелкнула выключателем.
— Да будет свет! — сказала она, и в голосе ее прозвучали вызов и страх одновременно.
Она стояла меж двух чемоданов, на одном из которых лежало несколько шляпок. Второй чемодан был еще раскрыт. При этом сама Мария, если не считать туфель на шпильках, была совершенно голая.
— Я могу быстро собраться, — сказала она. — Но если мы хотим в «Вуазан», мне надо немножко поработать над собой.
— Зачем?
— Что за вопрос! Сразу видно, что ты не часто имел дело с манекенщицами. — Она уже устраивалась перед зеркалом. — Водка в холодильнике, — деловито сообщила она. — Мойковская.
Я не ответил. Я понял, что в ту же секунду перестал для нее существовать. Едва только ее руки взялись за кисточки, словно пальцы хирурга за скальпель, это высвеченное ярким светом лицо в зеркале разом стало чужим и незнакомым, будто ожившая маска. С величайшим тщанием, будто и впрямь шла сложнейшая операция, прорисовывались линии, проверялась пудра, наводились тени, и все это сосредоточенно, молча, словно Мария превратилась в охотницу, покрывающую себя боевой раскраской.
Мне часто случалось видеть женщин перед зеркалом, но все они не любили, когда я за ними наблюдал. Мария, напротив, чувствовала себя совершенно непринужденно — с такой же непринужденностью она расхаживала нагишом и по квартире. Тут не только в профессии дело, подумал я, тут, скорее, еще и уверенность в своей красоте. К тому же Мария настолько привыкла к частой смене платьев на людях, что нагота, вероятно, стала для нее чем-то вроде неотъемлемой приметы частого существования. Я чувствовал, как вид этой молодой женщины перед зеркалом постепенно захватывает меня целиком. Она была полностью поглощена собой, этим тесным мирком в ореоле света, своим лицом, своим «я», которое вдруг перестало быть только ее индивидуальностью, а выказало в себе исконные черты рода, носительницы жизни, но не праматери, а скорее только хранительницы чего-то, что против ее воли черными омутами прошлого глядело сейчас из зеркала и властно требовало воплощения и передачи. В ее сосредоточенности было что-то отсутствующее и почти враждебное, в эти мгновения она вернулась к чему-то, что она потом сразу же забудет снова, — к первоистокам, лежащим далеко по ту сторону сознания, к сумрачным глубинам первоначал.
Но вот Мария медленно обернулась, отложив свои кисточки и помазки. Казалось, она возвращается с интимного свидания с самою собой; наконец она заметила меня и даже узнала.
— Я готова, — сказала она. — Ты тоже?
Я кивнул.
— Я тоже, Мария.
Она рассмеялась и подошла ко мне.
— Еще не раздумал прокутить свои деньги?
— Сейчас меньше, чем когда-либо. Но уже совсем по другой причине.
Я чувствовал ее тепло, нежность ее кожи. От нее веяло ароматом кедра, уютом и неизведанностью дальних стран.
— Сколько же на свете бесполезных вещей, — сказала она. — В тебе их полным-полно. Откуда?
— Сам не знаю.
— Почему бы тебе их не забыть? Как просто жилось бы людям, если бы не проклятье памяти.
Я усмехнулся.
— Вообще-то я кое-что забываю, только все время не то, что нужно.
— И сейчас тоже?
— Сейчас нет, Мария.
— Тогда давай лучше останемся. У меня тоже хандра, но более понятная. Мне грустно уезжать. С какой стати нам идти в ресторан? Что праздновать?
— Ты права, Мария. Извини.
— В холодильнике у нас татарские бифштексы, черепаховый суп, салат, фрукты. А также пиво и водка. Разве мало?
— Вполне достаточно, Мария.
— На аэродром можешь меня не провожать. Не люблю сцены прощания. Просто уйду, как будто я скоро вернусь. А ты оставайся здесь.
— Я тут не останусь. Отправлюсь к себе в гостиницу «Мираж», как только ты уедешь.
Секунду она помолчала.
— Как знаешь, — сказала она затем. — Мне было бы приятней, если бы ты пожил тут. А то ты такой далекий, когда уходишь.
Я обнял ее. Все вдруг стало легко, просто и правильно.
— Выключи свет, — попросил я.
— А ты есть не хочешь?
Я выключил свет сам.
— Нет, — сказал я и понес ее к кровати.
Когда снова началось время, мы долго лежали друг подле друга в молчании. Мария слабо пошевельнулась в полусне.
— Ты никогда не говорил мне, что любишь меня, — пробормотала она безразличным тоном, словно имела в виду не меня, а кого-то другого.
— Я тебя обожаю, — ответил я не сразу, стараясь не прерывать блаженство глубокого вздоха. — Я обожаю тебя, Мария.
Она прильнула щекой к моему плечу.
— Это другое, — прошептала она. — Совсем другое, любимый.
Я не ответил. Мои глаза следили за стрелками светящегося циферблата круглых часов на ночном столике. В голове все плыло, и я думал о многих вещах сразу.
— Тебе надо отправляться, Мария, — сказал я. — Пора!
Вдруг я увидел, что она беззвучно плачет.
— Ненавижу прощания, — сказала она. — Мне уже столько раз приходилось прощаться. И всегда раньше срока. Тебе тоже?
— У меня в жизни, пожалуй, кроме прощаний и не было почти ничего. Но сейчас это не прощание. Ты ведь скоро вернешься.
— Все на свете прощание, — сказала она.
Я проводил ее до угла Второй авеню. Вечерний променад гомосексуалистов был в полном разгаре. Хосе махнул нам, Фифи залаял.
— Вон такси, — сказала Мария.
Я погрузил ее чемоданы в багажник. Она поцеловала меня и уселась в машину. В темном нутре автомобиля она выглядела какой-то маленькой и совсем потерянной. Я провожал ее глазами, пока такси не скрылось из виду. «Странно, — подумал я. — Ведь это только на пару дней». Но страх — а вдруг навсегда, а вдруг это в последний раз? — остался еще с Европы.
XX
Реджинальд Блэк потрясал газетой.
— Умер! — воскликнул он. — Ушел подлец!
— Кто?
— Дюран-второй, кто же еще…
Я перевел дух. Ненавижу траурные известия. Слишком много их было на моем веку.
— Ах, он, — сказал я. — Ну, это можно было предвидеть. Старый человек, рак.
— Предвидеть? Что значит «предвидеть»? Старый человек, рак и неоплаченный Ренуар в придачу!
— А ведь верно! — ужаснулся я.
— Еще позавчера я звонил ему. Он мне заявил, что, вероятнее всего, картину купит. И на тебе! Надул-таки нас!
— Надул?
— Конечно! Даже дважды надул. Во-первых, он не заплатил, а во-вторых, картина теперь числится в наследственном имуществе и считается конфискованной государством, пока не урегулированы все наследственные претензии. Это может тянуться годами. Так что портрет для нас, считайте, пропал, пока не улажены все дела по наследству.