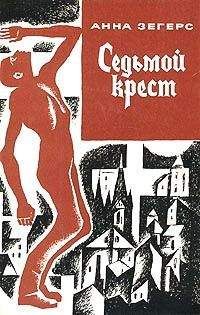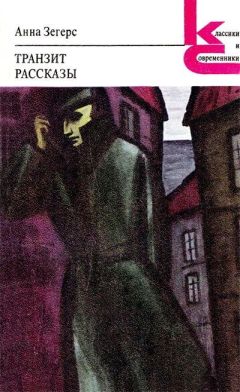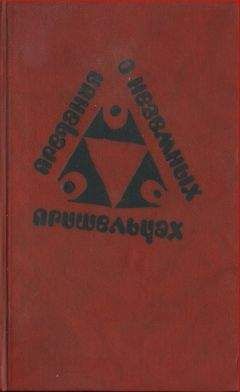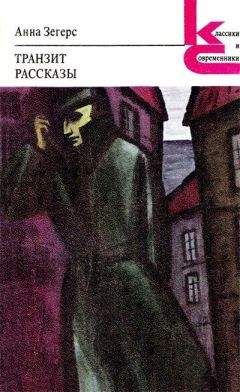Анна Зегерс - Седьмой крест. Рассказы
И вдруг Георг бодро обратился к хозяину и осведомился о его возрасте и профессии. Тридцать четыре года, отвечал Кресс. Специальность — физическая химия. Георг спросил, что это такое; Кресс попытался, как будто даже обрадовавшись, объяснить ему. Сначала Георг слушал внимательно, затем он снова начал думать о Пауле, залитом кровью, и о Лизель, которая ждет. Кресс по-своему объяснил молчание Георга.
— Еще есть время, — сказал он мягко.
— Время? Для чего?
— Чтобы выбраться отсюда.
— Разве мы не решили остаться? Не думайте больше об этом.
Но и сам Георг не мог думать ни о чем другом. Он встал и начал рыться в книгах. Две или три были ему знакомы — еще с тех времен, когда он дружил с Францем. Это время было самым радостным в его жизни. Но те простые, тихие дни заслонялись более отчетливыми воспоминаниями последующих бурных лет. «Отчего забываешь самое заветное? — думал Георг. — Оттого, что оно срастается с душой, беззвучно живет в ней». Георг обернулся к фрау Кресс и стал подробно расспрашивать о ее семье и ее детстве. Она слегка вздрогнула, чего Кресс за ней никогда не замечал. Затем начала рассказывать:
— Мой отец поступил в армию еще совсем молодым человеком. Он не обнаружил особых способностей и уже сорока четырех лет вышел в отставку в чине майора. Нас было пятеро детей — четверо братьев и я; отец командовал нами, пока мы не выросли.
— А ваша мать?
Однако Георгу так и не пришлось ничего узнать о ее матери — где-то рядом остановился автомобиль, и все трое затаили дыхание; автомобиль тут же отъехал, но желание продолжать беседу исчезло. Георг снова подумал о Редере; мысленно он просил у Пауля прощения за только что пережитый страх, как будто и он, подобно Крессу, был готов ко всему. И все-таки, когда проехал следующий автомобиль, он опять вздрогнул. Все трое молчали. Казалось, в этой накуренной комнате ночь тянется бесконечно.
Глава седьмая
Было еще почти темно, однако становилось ясно, что поля и крыши белы от инея, а не только от света луны. Со стороны Кронеберга к шоссе шла крошечная старушка с мешком за плечами. Она шла, что-то бормоча и поглядывая по сторонам, и в этой старушонке, семенившей до свету по полям с мешком и суковатой палкой, было что-то ведьмовское. Правда, вблизи это впечатление исчезало, так как мешок оказался обыкновенным рюкзаком, а на ней была обыкновенная грубошерстная пелерина с заячьим воротником и праздничная шляпка, которую она нацепила поверх обычного головного платка.
Перед усадьбой Мангольдов старушка перескочила через придорожную канаву, склонилась над пашней, точно разглядывая что-то, сердито забормотала, перескочила обратно и направилась по дороге к дому Мессеров. В окне кухни — оно находилось на одном уровне с землей — уже горел свет, первый огонек в это утро. Достойным сыновьям предназначался воскресный кофе с ватрушками. А недостойным? Им тем паче, решила Евгения, чтобы сладкие, нежные ватрушки их смягчили.
Старушонка опять перескочила канаву, но не против Мессеров, а подальше, против поля. Она наклонилась, затем выпрямилась и уверенно засеменила к той рощице и по той же дороге, по которой вчера ушло стадо. Ибо это была мать Эрнста-пастуха, которого она по воскресеньям часами заменяла при стаде, а свежий навоз на Мессеровом поле отмечал то место, где оно вчера паслось. Она знала их маршрут, сегодня они будут уже у Прокаски, в общине Мамольсберг.
Когда она вышла из рощицы на участок, который Мессер продал весной, для того чтобы обойти новый закон о наследственных дворах, она увидела вправо от дороги, посреди кучки старых заиндевелых елей, желтое здание гостиницы. Мягко и плавно опускаются там поля, чтобы по ту сторону дороги опять так же мягко и плавно подняться; здесь взгляд не теряется в далях, его останавливает буковый лес, покрывающий цепь холмов, до которых самое большее два часа. Когда взойдет солнце, широкая круглая долина засверкает всеми красками осени. Луна так бледна, что ее искать нужно в небе. Мать Эрнста, энергично семенящая по серо-белому склону, не отбрасывает никакой тени.
Вдруг она останавливается. Шагах в двухстах от нее через прогалину между группой елей и рощицей спешит девушка. Мать Эрнста на минуту забывает о том, что ее воскресное посещение предназначается не отцу, а сыну; вот такая убегающая девушка ей искони служила куда лучшим указателем, чем овечий навоз. И она пищит среди тусклых сумерек тоненьким голоском:
— Эй, барышня!
Девушка останавливается, до смерти испуганная. Озирается по сторонам: вокруг все серо и тихо. Мать Эрнста спускается с пригорка у нее за спиной.
— Эй, барышня!
Девушка опять пугается.
— Барышня, вы забыли кое-что.
— Где? Что?
— Такой коротенький белокурый волосок.
Но девушка уже опомнилась, она кругленькая, крепкая и не из пугливых.
— Ну так положите его к себе в молитвенник!
Старуха не то смеется, не то кашляет. А девушка высовывает ей большой красный язык и убегает.
В небе луна словно еще раз оживает, она становится ярче, так как небо голубеет. Девушка догадывается, кто эта старуха, и в ней закипает досада. В деревнях звонят колокола. Как она могла связаться с таким парнем! Пока он был возле их дома со своим стадом, она держала себя в руках. А как ушел в Мамольсберг, нате, пожалуйста, она вдруг бежит к нему! Боже, боже! Эта карга, его мать, теперь везде сплетни распустит, но ведь она, старая ведьма, про каждую хорошую девушку сплетничает. Разве она не трепалась даже насчет Марихен из Боценбаха? Марихен ведь ребенок, ей всего пятнадцать, она сговорена со шмидтгеймовским Мессером, а тот никогда не возьмет деревенскую красотку с изъяном! И когда кругленькая девушка выходит из рощицы и приближается к кухонному окну Евгении, она уже полна гордости и обиды, как та, про которую пустили незаслуженную сплетню.
— Хайль Гитлер! Раз ты уже печешь, Евгения, отломи мне, если можешь, кусочек ванильной палочки.
— Целую палочку возьми, а не кусочек. — У Евгении в чистом стеклянном стаканчике хранятся всевозможные пряности. — Ты моя первая гостья, Софи, — говорит она, протягивая ей ваниль и на доске для теста ломтик еще теплой ватрушки.
У Софи Мангольд липкие губы — ведь ватрушка так густо посыпана сахаром, — и уже весело бежит она к своей собственной кухне, где мать смалывает кофе.
Наконец эта ночь прошла. Каждый раз, когда со стороны поселка подходила машина или доносились шаги ночного патруля, хозяин и его гость вздрагивали, и, по мере того как ночь нарастала, лихорадка страха становилась все сильнее и неотвязнее, точно тела их с каждым часом теряли способность сопротивляться.
Когда фрау Кресс наконец открыла ставни и снова обернулась к ярко освещенной комнате, ей показалось, что мужчины постарели и осунулись за эту ночь, — не только гость, но и хозяин. По ее спине пробежал легкий озноб. Взглянув на плоскую никелевую подставку настольной лампы, она увидела и свое отражение — лицо все такое же, только губы побледнели.
— Ночь прошла! — возвестила она. — Что касается меня, то я сейчас приму ванну и надену воскресное платье.
— А я сварю кофе, — сказал Кресс. — А вы, Георг?
Ответа не последовало. Когда окно было открыто и в комнату ворвался свежий утренний воздух, Георга совсем сморило, он не то заснул, не то окончательно обессилел. Кресс подошел к стулу, на котором сидел его гость, уронив голову на край стола. Заметив, что Георгу неудобно, Кресс приподнял голову спящего и слегка повернул ее. Где-то в уголке сознания закопошился вопрос, долго ли еще придется прятать у себя этого человека. Устыдившись такого вопроса, он резко приказал этому голосу замолчать. Ошибаешься, сказал он себе, я прятал бы у себя даже труп этого человека.
Георг вскоре очнулся — может быть, где-то стукнула дверь. Еще охваченный дремотой, он, следуя уже выработанной привычке, постарался определить характер разнообразных звуков, доносившихся до него: вот скрежет кофейной мельницы, вот течет в ванной вода. Он решил встать и пойти в кухню, к Крессу. Он хотел побороть эту дремоту, которая снова одолевала его, — мучительную дремоту. Но нет, сон опять навалился, и последней мыслью Георга было, что это только сонное наваждение, он не поддастся. Однако наваждение победило…
Итак, он все же пойман. Они втолкнули его в барак номер восемь. Его тело было покрыто кровавыми ранами, но от страха перед тем, что еще ждет его, он не чувствовал боли. Он сказал себе: мужайся, Георг! Но он знал, что в этом бараке ему предстоит самое страшное. И вот оно началось.
За столом, покрытым электрическими проводами и заставленным телефонными аппаратами, однако напоминавшим стол в пивной — там даже лежало несколько картонных кружков, на какие обычно ставятся пивные кружки, — сидел сам Фаренберг, впившись в Георга пронизывающим взглядом сощуренных глаз, с застывшим смехом на губах. Справа и слева сидели Бунзен и Циллих, обернув к нему головы. Бунзен засмеялся. Но Циллих был угрюм, как всегда. Он тасовал карты. В комнате было темно, только над столом несколько светлее, хотя Георг нигде не видел лампы. Один из проводов трижды обвивал мощное тело Циллиха, и от этого зрелища по спине Георга пробегала ледяная дрожь. Однако он успел еще вполне отчетливо подумать: они и впрямь играют с Циллихом в карты. В отдельных случаях, стало быть, классовые противоречия уже сняты.