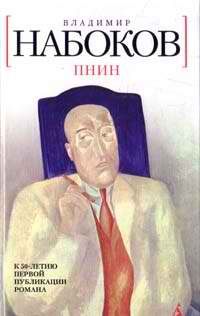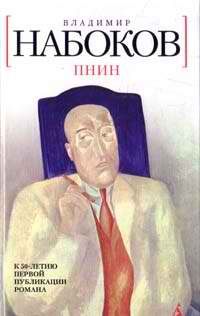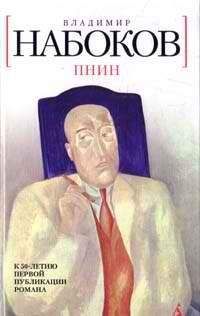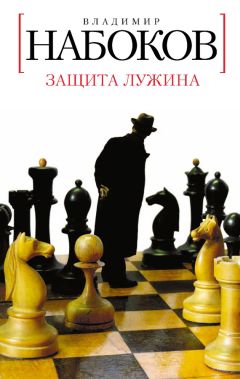Владимир Набоков - Пнин
Принеся извинения за "небрежность туалета", Пнин продемонстрировал этот фильм у себя в группе — и Кэти Кис, аспирантка, записанная в семинар сравнительного литературоведения, в котором Пнин выступал как ассистент доктора Гагена, объявила, что Тимофей Павлович был там вылитый Будда, которого ей довелось видеть однажды в каком-то восточном фильме на азиатском отделении. Эта Кэти Кис, пухленькая и по-матерински заботливая девушка, вступившая, вероятно, в двадцать девятую весну своей жизни, при всей своей мягкости была как бы занозой в стареющей плоти Пнина. Лет десять тому назад ее возлюбленным был красивый проходимец, который бросил ее ради маленькой побродяжки, а поздней она оказалась втянутой в какую-то безвылазно сложную, скорей чеховскую, чем достоевскую, любовную историю с инвалидом, который был теперь женат на своей миловидной и ничтожной сиделке. Бедный Пнин колебался. В принципе он не исключал брак. Осиянный своей новою зубопротезной славой, он зашел на одном из семинаров так далеко, что после ухода всех прочих студентов, положив Кэтину руку себе на ладонь, стал поглаживать ее, сидя напротив Кэти за столом и обсуждая с ней стихотворение в прозе Тургенева "Как хороши, как свежи были розы". Кэти едва смогла дочитать до конца, грудь ее распирали вздохи, а рука дрожала на его ладони. "Тургенев, — сказал Пнин, положив ее руку обратно на стол, — был заставляем этой страшной, но им обожаемой певицей Полин Виардо ломать идиота в шарадах и всяких tableaux vivants,[6] а мадам Пушкина произносила: „Ты надоедаешь мне своими стихами, Пушкин“, — а в пожилом возрасте — подумать только! — жена глыбы и колосса, колосса Толстого, гораздо лучше, чем его, любила глупый музыкант с красным ноузом!"{19}
Пнин ничего не имел против мисс Кис. Пытаясь представить себе свою спокойную дряхлость, он со вполне допустимой ясностью видел, как она подает ему плед или наполняет чернилами ручку. Она вполне ему нравилась — но сердце его принадлежало другой женщине.
Кота, как говаривал Пнин, не можно утаить в мешке. И для того чтобы объяснить то унизительное волнение, которое охватило моего бедного друга как-то вечером в середине семестра — когда он получил некую телеграмму и потом добрых сорок минут мерял шагами свою комнату, — следует признать, что Пнин не всегда был холост. Клементсы играли в китайские шашки в отблесках уютного камина в то время, как Пнин, прогрохотав вниз по лестнице, поскользнулся и чуть не повалился им в ноги, как ходатай в каком-нибудь средневековом городе, стонущем от кривды, однако сумел все же удержать равновесие, но для того только, чтоб наскочить на кочергу и каминные щипцы.
— Я пришел, — сказал он, с трудом переводя дух, — чтобы вас извещать или, выражаясь с большей правильностью, спросить вас, может ли ко мне в субботу приходить с визитом женщина — в дневное время, конечно. Это моя бывшая жена, а ныне доктор Лиза Финт — может быть, вы услышали в психиатрических кругах.
5
Бывают любимые женщины, чьи глаза, в силу какого-то случайного сочетания их сиянья и формы, воздействуют на нас не впрямую, не в миг смятенного их лицезрения, а посредством взрыва всего накопленного сиянья, который происходит позже, когда бессердечного существа уже нет подле нас, а волшебная световая пытка продолжается, и все лампы ее и линзы установлены в темноте. Какие бы ни были на самом деле глаза у Лизы Пниной, ныне Финт, они лишь тогда представали в своей водно-алмазной сущности, если вы вызывали их в памяти, и тогда этот плоский, невидящий, влажный аквамариновый блеск становился вдруг пристальным и трепещущим, точно капельки солнца и моря попали вам между ресницами. В жизни глаза ее были прозрачные и светло-синие, оттененные чернотою ресниц, с белками, розовевшими в уголках, и они удлинялись к вискам, где от них по-кошачьему хищно, веерами расходились морщинки. Волосы у нее были темно-каштановые, поднимавшиеся волной над блестящим и белым лбом, цвет лица бело-розовый, а губная помада красная, очень бледная, и если не принимать в учет несколько полноватых лодыжек ее и запястий, то, пожалуй что, не было больше изъянов в ее расцветшей уже, полной жизни, не слишком ухоженной природной красоте. Пнин, в ту пору еще подававший надежды молодой ученый, познакомился с этой юной наядой, более эфемерной, чем ныне, но, по сути, почти не переменившейся, в 1925 году в Париже. У него была тогда редкая рыжеватая борода (теперь, если бы он не брил ее, на подбородке торчали бы только седые щеточки — бедный Пнин, бедный, бедный дикобраз-альбинос!) и эта разделенная надвое монашеская поросль под толстым лоснящимся носом с парой ясных невинных глаз — все это милейшим и лаконичнейшим образом передавало физический облик старомодной интеллигентской России. Весьма скромная должность в Аксаковском институте, что на рю Вар-Вар, и еще одна — в русской книжной лавке Сола Багрова{20} на рю Грессэ доставляли ему средства к жизни. Лиза Боголепова, студентка-медичка, которой едва исполнилось двадцать, совершенно очаровательная в своем черненьком шелковом джемпере и на заказ сшитой юбке, уже работала в Медонской санатории, возглавляемой грозной и впечатляющей старой дамой, докторессой Розеттой Кременинг, одним из самых вредоносных психиатров своего времени; и в довершенье всего, Лиза еще писала стихи — по большей части спотыкающимся анапестом; легко догадаться, что впервые Пнин увидел ее на одном из тех литературных вечеров, где молодые эмигрантские поэты, покинувшие Россию еще в дальнюю, нежную пору своего беспрепятственного полового созревания, нараспев читали элегии, посвященные стране, которая едва ли могла быть для них много большим, чем грустная стилизованная игрушка, чем безделушка, найденная на чердаке, хрустальный шарик, в котором, ежели встряхнуть его, мягкий искрящийся снегопад засыпает крошечную елочку и бревенчатую избушку из папье-маше. Пнин написал ей потрясающее любовное письмо — оно и теперь еще цело в частной коллекции, — и она читала его, проливая слезы жалости к себе самой, потому что как раз выздоравливала после суицидальной попытки отравиться таблетками из-за одной весьма глупой романтической истории с литератором, который сейчас… Впрочем, это неважно. Пять психоаналитиков, ее близких друзей, заявили в один голос: "Пнин — и немедля ребенка".
Брак почти не изменил их образа жизни, если не считать того, что она переехала в его унылую квартирку. Он продолжал свои штудии в области славистики, она — свои, в области психодрамы и лирического стиховодства, с редкой яйценоскостью, наподобие пасхального кролика, начиненного яйцами, откладывая свои детища по всей квартире, все эти зеленые и розоватолиловые опусы — про дитя, что она хотела бы зачать, про любовников, которых хотела иметь, и про Санкт-Петербург (дань Анне Ахматовой) — каждая интонация, каждый образ и каждое сравнение в них уже были опробованы раньше другими рифмующими кроликами. Один из ее поклонников, банкир и бесцеремонный покровитель искусств, выбрал среди русских парижан влиятельного литературного критика Жоржика Уранского{21}, и за обед с шампанским в кабаре "Уголок" старина Уранский подрядился свой следующий feuilleton[7] в одной из русскоязычных газет посвятить воспеванию Лизиной музы, на чьи каштановые кудряшки он преспокойно возложил поэтическую корону Анны Ахматовой, от чего Лиза разразилась счастливыми рыданьями — точь-в-точь как рыдает какая-нибудь крошка Мисс Мичиган или Королева Орегонской Розы после объявления результатов конкурса. Пнин, которому не все подробности были известны, носил в своем честном бумажнике газетную вырезку с этими бессовестными восторгами и с простодушием зачитывал отрывки из нее то одному, то другому немало над этим потешавшемуся приятелю до тех пор, пока вырезка не стала вовсе уж истрепанной и грязной. Ничего не известно ему было и о более серьезных ее увлечениях, так что он как раз сидел дома и вклеивал обрывки газетной статьи в альбом, когда Лиза позвонила ему из Медона в тот декабрьский день 1938 года и сообщила, что она уезжает в Монпелье с человеком, который понимает ее "органическое я", а именно с доктором Эриком Финтом, и что он, Тимофей, больше никогда ее не увидит. Какая-то незнакомая рыжеволосая француженка зашла к нему, чтобы забрать Лизины вещи, и сказала, ну что, конторская крыса, нет у тебя больше бедной девочки, чтоб ее taper dessus,[8] — а еще месяц-два спустя добралось до него письмо доктора Финта из Германии, выражавшее сочувствие, приносившее ему извинения и заверявшее lieber Herr Pnin,[9] что он, доктор Финт, жаждет сочетаться браком с "женщиной, которая ушла из вашей жизни в мою".
Пнин, конечно, дал бы ей развод с той же готовностью, с какой отдал бы и самую жизнь, перерезав влажный ее стебель, добавив к букету папоротник и все завернув в хрустящий пергамент, как в пахнущей грунтом цветочной лавке, когда льет дождь, обращая пасхальный день в мерцание серых и зеленых зеркал; но тут выяснилось, что в Южной Америке у доктора Финта есть жена, у которой какие-то странные идеи и фальшивый паспорт и которая не хочет, чтоб ее тревожили, пока не прояснится, как обстоит дело с осуществлением ее планов. Тем временем Пнина тоже стал манить Новый Свет: старый его друг профессор Константин Шато предложил ему из Нью-Йорка всяческую помощь в перемещении за море. Пнин известил доктора Финта о своих планах, а Лизе послал последний номер émigré[10] журнала, где она была упомянута на странице 202. Он уже проходил через тот унылый ад, который изобретен был европейскими бюрократами (к немалой потехе Советов) для обладателей смехотворной бумажки, называемой нансеновским паспортом{22} (нечто вроде удостоверения, даваемого узнику, освобожденному под честное слово, и выданного всем русским émigré), когда в одно сырое апрельское утро 1940 года раздался сильный звонок в дверь, ввалилась Лиза, тяжело дыша и неся перед собой, точно буфет с выдвижными ящиками, груз семимесячной беременности, и объявила, срывая с себя шляпку и скидывая туфли, что все это была ошибка и что отныне она снова будет Пнину верной и послушной женой, которая готова последовать за ним куда угодно — даже за океан, если потребуется. Это были, наверно, самые счастливые дни в его жизни — ровное, непреходящее сияние полновесного, мучительного счастья — и прорастание виз, и сборы, и медицинский осмотр, когда прямо через одежду глуховатый врач приставлял свой глупоглухой стетоскоп к переполненному до краев сердцу Пнина, и хлопоты в американском консульстве, где эта русская дама (моя родственница) была так добра к ним, и поездка в Бордо, и этот опрятный красавец корабль — во всем был такой сильный привкус волшебной сказки. Он не только согласен был объявить о своем отцовстве, едва ребенок появится на свет, но и полон был страстного желания это сделать, и она слушала с довольным и отчасти коровьим выражением на лице, когда он разворачивал перед ней свои педагогические планы, ибо и вправду казалось, что до него долетают еще не раздавшийся первый крик младенца, а также его первое, недалекое уже слово. Она всегда любила засахаренный миндаль, но сейчас она поглощала его просто в невероятных количествах (два фунта между Бордо и Парижем), и аскетический Пнин, созерцая ее алчность, качал головой и пожимал плечами в благоговейном восторге, и что-то от шелковистой гладкости этих dragées[11] осталось в его сознании навсегда слитое с воспоминаньем о ее тугой коже, о белизне лица, о ее безупречных зубах.