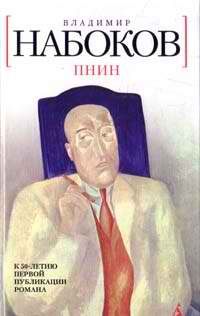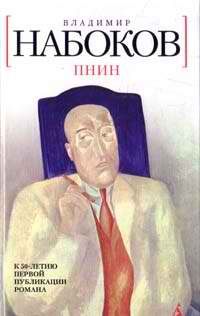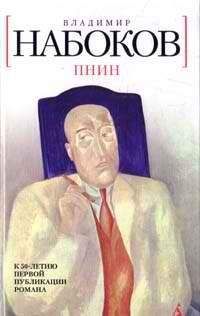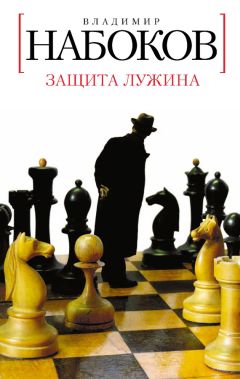Владимир Набоков - Пнин
— Очевидно, — сказал тот же голос, без всякого неудобства продолжая прерванный разговор, — что я по ошибке использовал имя того, кто мне давал сообщение. Соединен ли я с миссис Клементс?
— Да, это миссис Клементс, — сказала Джоун.
— Говорит профессор… — дальше последовал какой-то нелепый взрывчик. — Я преподаю русский. Миссис Файер, которая выполняет сейчас в библиотеке почасовую работу в качестве…
— Да, — миссис Тэйер, знаю. Вы что, хотите посмотреть комнату?
Он хотел. Мог ли бы он прийти для осмотра приблизительно через полчаса? Да, она будет дома. Она безжалостно швырнула трубку.
— Кто на этот раз? — спросил муж, оборачиваясь с лестницы (пухлая, веснушчатая рука на перилах), уводившей в прибежище его кабинета.
— Пинг-Понг крак! Какой-то русский.
— Профессор Пнин, о боже! — воскликнул Лоренс. — "Я знаю хорошо — бесценный этот перл…"{14} Я категорически против того, чтоб этот ненормальный жил в моем доме.
Он свирепо продолжал топать вверх по лестнице. Она крикнула ему вслед:
— Лор, ты кончил вчера эту статью?
— Почти. — Он остановился у поворота лестницы — она слышала, как, продолжая двигаться, взвизгнула его ладонь, потом прихлопнула перила. — Сегодня кончу. Сперва еще надо подготовить этот чертов экзамен по ЭЗС.
Последнее означало "Эволюция здравого смысла", самый знаменитый из его курсов (записалось двенадцать студентов, ни один из которых не имел и малейшего сходства с апостолом), начинавшийся и завершавший ся фразой, которой суждено когда-нибудь стать крылатой: "Эволюция смысла представляет собой в каком-то смысле эволюцию бессмыслицы".
2
Полчаса спустя Джоун взглянула в окно балконной двери поверх усыхающих кактусов и увидела какого-то мужчину в дождевом плаще, с непокрытой головой, похожей на полированный медный шар. Он с большим энтузиазмом звонил у парадной двери красивого кирпичного дома по соседству. Старый пес, стоявший подле него, имел вид столь же простодушный, что и сам звонивший незнакомец. Мисс Динглдон вышла со шваброй, впустила в дом нерасторопного, важно ступавшего пса и направила Пнина к дощатой резиденции Клементсов.
Тимофей Пнин уселся в гостиной у Клементсов, закинул ногу на ногу ро amerikanski (на американский манер) и пустился в ненужные подробности. Это было "куррикулюм витэ", жизнеописание, сжатое до размеров ореха — кокосового ореха. Родился в Санкт-Петербурге в 1898-м. Родители умерли от тифа в 1917-м. Уехал в Киев в 1918-м. Пять месяцев находился в Белой армии, сперва в качестве "полевого телефониста", потом в военной разведке. После вторжения красных в 1919-м бежал из Крыма в Константинополь. Завершил университетское образование…
— Подумать только, я была там в детстве, в том же самом году, — сказала Джоун радостно. — Отец поехал в Турцию с правительственным поручением и взял нас с собой. Мы с вами могли там видеться! Я даже помню, как будет на их языке "вода". Там был такой садик с розами…
— Вода по-турецки есть "су", — сказал Пнин, лингвист поневоле, и продолжил рассказ о своем увлекательном прошлом: — Завершил университетское образование в Праге. Был связан с различными научными учреждениями. Потом…
"Как говорят по-английски, намного короче говоря: населялся в Париже от 1925, покидал Францию от начала гитлеровской войны. Есть теперь здесь. Есть американский гражданин. Преподаю русского и другие такие предметы в Вандальском университете. От Гагена, главы германского отделения, доступны все рекомендации. Или от Университетского дома холостых вандальских преподавателей".
А что, там ему было неудобно?
"Слишком много людей, — сказал Пнин. — Любопытных людей. В то время как сейчас совершенно для меня необходим специальный покой и уединение". Он откашлялся в кулак, издав при этом неожиданно глухой и утробный звук, чем-то напомнивший Джоун о профессиональном донском казаке, с которым она когда-то была знакома, потом решился: "Я должен предупредить: будут вытащены все мои зубы. Это омерзительная процедура".
— Ну что ж, пошли наверх, — сказала Джоун жизнерадостно.
Пнин заглянул в розовостенную, всю в белых оборочках комнату Изабел. Хотя небо было из чистой платины, вдруг пошел снег, и его медленный, сверкающий обвал отражался в безмолвном зеркале. Пнин скрупулезно исследовал "Девочку с котенком"{15} Хекера, висевшую над кроватью, а также "Козленка, отставшего от стада"{16} Ханта над книжной полкой. Потом подержал руку на некотором расстоянии от окна.
— Однородна температура?
Джоун метнулась к батарее.
— Раскаленные, — сказала она.
— Я ставлю вопрос — есть ли течения воздуха?
— О да, воздуху сколько угодно. А это ванная — маленькая, зато ваша собственная.
— Ля душ нету? — осведомился Пнин, поднимая взгляд. — Что ж, так, возможно, даже лучше. Мой друг профессор Шато из Колумбийского однажды поломал ногу в двух участках. Теперь я должен подумывать. Какую цену вы приготовились запросить? Я спрашиваю это, потому что я не буду давать больше, чем один доллар в каждый день — не включая сюда, конечно, прокармливание.
— Идет, — отозвалась Джоун, улыбнувшись своей беглой, дружелюбной улыбкой.
В тот же день один из студентов Пнина, Чарльз Макбет ("Полагаю, сумасшедший, судя по его сочинениям", — говорил о нем Пнин), с энтузиазмом осуществил перевозку пнинских вещей в своем патологически пурпурном автомобиле, не имевшем левого крыла, а после раннего ужина в ресторанчике "Яйцо и мы", который открылся недавно и не пользовался успехом и который Пнин посещал лишь из глубокой симпатии к неудачникам, наш друг посвятил себя приятному делу пнинизации своего нового обиталища. Отрочество Изабел ушло вслед за нею самой, а если где и сохранялось еще, было решительно выкорчевано матерью, зато следам ее девчачьего детства кое-где позволено было уцелеть, и потому, прежде чем изыскать самое благоприятное место, где можно было бы разместить сложную лампу для загара, огромную пишущую машинку с русским алфавитом в разбитом гробу, склеенном лентой, пять пар элегантных и на удивленье маленьких туфель с десятком произраставших из них ветвистых колодок, последнюю кофемольно-кофеварящую новинку бытовой техники, которая была все же не так хороша, как та, что взорвалась у него год назад, пару будильников, бегающих всякую ночь наперегонки, и семьдесят четыре библиотечные книги, по большей части все русские периодические издания, солидно переплетенные БУУ (то бишь Библиотекой Уэйндельского университета), — Пнин осторожно выдворил на стул, стоящий на лестничной площадке, полдюжины осиротевших книжек, таких, как "Птицы у нас дома", "Счастливые деньки в Голландии" и "Мой первый словарь" ("Содержащий более 600 иллюстраций, на которых представлены зверинцы, части тела, фермы, пожары — все отобранные на строго научной основе"), а также одинокую деревянную бусину с дырочкой посредине.
Джоун, возможно и злоупотреблявшая отчасти этим словом "бедняжка", заявила, что она пригласит бедняжку ученого выпить вместе с ее гостями, на что муж заявил ей, что он тоже бедняжка ученый и что он уйдет на весь вечер в кино, если только она приведет в исполнение свою угрозу. Однако, когда Джоун поднялась наверх к Пнину, чтоб его пригласить, он отклонил ее приглашение, заявив не слишком учтиво, что решил больше не употреблять спиртных напитков. Около девяти прибыли Энтсвистл и три замужние пары, а часов этак в десять, когда вечеринка была в полном разгаре, Джоун, толковавшая с миловидной Гвен Кокарек, заметила вдруг у двери, ведущей к лестнице, переодетого в зеленый свитер Пнина, который поднимал — так, чтоб она видела, — высокий стакан. Джоун поспешила к нему — и одновременно, чуть не сбив ее с ног при этом, через комнату бросился ее муж, чтобы остановить, изничтожить главу английского отделения Джека Кокарека, который в тот самый момент, стоя спиной к Пнину, развлекал миссис Гаген и миссис Блорендж своим знаменитым представлением — он был один из лучших, может даже самый лучший, в городке имитатор Пнина. Модель для его пародий сообщала между тем Джоун: "Это не есть чистый стакан в ванной, и существуют также другие помехи. Идет поддувание от пола и поддувание от стен…" Тут доктор Гаген, благообразный, квадратный старик, также заметил Пнина и стал жизнерадостно его приветствовать, а еще через мгновение в обмен на пустой стакан Пнину вручили точно такой же, но наполненный виски с содовой и со льдом, а самого его немедля представили профессору Энтсвистлу.
"Zdrastvuyte, как pozhivaete horosho spasibo", — отбарабанил Энтсвистл, славно имитируя русскую речь, — он и впрямь был похож на добродушного царских времен полковника в штатском. "Как-то вечером в Париже, — продолжал он, и в глазах его засветились искорки, — в кабаре „Ougolok“ эта моя наглядная демонстрация совершенно убедила компанию русских завсегдатаев, что перед ними соотечественник, который выдает себя за американца, сами знаете, как это".