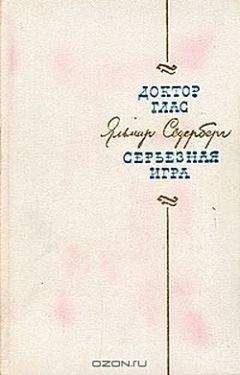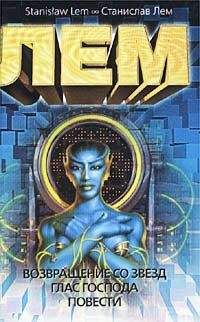Яльмар Сёдерберг - Доктор Глас
С этими словами я приставил к его груди стетоскоп, попросил его минуточку помолчать и стал слушать. Я не услышал ничего особенного, разве лишь незначительные перебои, что вполне обычно для пожилого человека, взявшего себе в привычку переедать за обедом, а после заваливаться соснуть часок-другой. В один прекрасный день его, возможно, и хватит удар, всяко случается, но это вовсе не обязательно, было бы преждевременно говорить о сколько-нибудь реальной угрозе.
Так-то оно так, однако я тщательно готовился разыграть свою сцену и не намерен был теперь отступать. Я выслушивал его гораздо дольше, чем это требовалось, передвигал стетоскоп, выстукивал и снова слушал. Ему, как видно, невмоготу было сидеть и молчать — ведь он привык болтать без умолку, в церкви, в гостях, у себя дома; у него несомненный дар по этой части, и не исключено, что как раз сей талантишко и подвигнул его на профессию проповедника. Осмотра он побаивался, он гораздо охотнее поболтал бы еще о бациллах, чтобы потом, спохватившись о времени, благополучно удрать. Но деться ему было некуда. Я выслушивал его и молчал. И чем дольше я выслушивал, тем заметнее путалось и сбивалось его сердце.
— Что-нибудь серьезное? — не выдержал он наконец.
Я ответил не сразу. Я прошелся по кабинету. В голове у меня созревал план, простенький, немудреный в общем-то планчик, но я совершенно не искушен в интригах, поэтому я колебался. Колебался я еще и потому, что план был построен целиком в расчете на его глупость и невежество — но в самом ли деле он настолько глуп, рискну ли я? Не слишком ли получится шито белыми нитками, а вдруг догадается?
Я перестал вышагивать и устремил на него один из проницательнейших своих докторских взглядов. Землисто-бледная дрябло-жирная физиономия собрана была в складки ослиного благочестия, но взгляда я уловить не мог, очки отражали лишь окно с гардинами и фикус. Я все же решил рискнуть. В конце концов не важно, лисица он или осел, думал я, и лисица ведь, что ни говори, поглупее человека. С ним, я уверен был, можно повалять дурака, ничем не рискуя, — ему нравились шарлатанские штучки, я это тотчас уловил; мое глубокомысленное вышагивание по кабинету и мое продолжительное молчание, последовавшее за его вопросом, уже произвели на него должное впечатление и сделали податливей.
— Странно, — пробормотал я наконец.
И я снова приблизился к нему со своим стетоскопом.
— Прошу прощения, — сказал я, — придется вас еще разок побеспокоить, не знаю, уж не ошибся ли я.
— Н-да, — произнес я в конце концов, — судя по тому, что я слышу сегодня, сердце у вас основательно пошаливает. Но вряд ли это обычное его состояние. Сегодня, надо думать, имеются какие-то особые причины!
Он поспешил изобразить на своем лице знак вопроса, но это у него неважно получилось. Я тотчас приметил, как всполошилась его нечистая совесть. Он приготовился было что-то сказать, наверное, спросить, что я имею в виду, уже открыл было рот, но только прокашлялся. Он, верно, предпочел бы обойтись без уточнений — зато я предпочитал поставить все точки над i.
— Давайте говорить начистоту, пастор Грегориус, — начал я. Его так и передернуло при этом вступлении. — Вы, конечно, помните наш недавний разговор насчет состояния здоровья вашей супруги. Я не хочу быть неделикатным и не стану спрашивать, как выполняли вы тогдашнюю нашу договоренность. Мне хочется лишь заметить, что, знай я тогда, что у вас с сердцем, я мог бы привести гораздо более веские соображения в пользу совета, который я позволил себе дать. Ваша супруга рискует лишь своим здоровьем; вы же, легко может статься, рискуете жизнью.
На него в эту минуту тошно было глядеть — лицо его приобрело наконец окраску, но не порозовело, не покраснело, а сделалось какое-то зелено-фиолетовое. Зрелище было до того омерзительное, что я невольно отвернулся. Я подошел к раскрытому окну, чтобы глотнуть свежего воздуха, но на улице была такая же духотища, как и в комнате.
Я продолжал;
— Рецепт у меня один: раздельные спальни. Насколько мне помнится, вам это не по душе, но тут уж ничего не попишешь. Дело в том, что в данном случае чрезвычайно опасна не только сама по себе физическая близость, рекомендуется вообще избегать всяких возбуждающих факторов. Да, да, я знаю, что вы хотите сказать: что вы пожилой человек и, кроме того, священник; но я, как врач, имею право говорить со своим пациентом вполне откровенно. И не сочтите за бестактность, если я позволю себе заметить, что постоянная близость молодой женщины, особенно в ночное время, должна действовать примерно одинаково что на священника, что на всякого иного мужчину. Я, видите ли, кончал курс в Упсальском университете, имел там немало приятелей среди теологов и, признаться, как-то не заметил, чтобы изучение теологии более всего прочего страховало юную плоть от такого рода пожара. А насчет возраста — а сколько вам, собственно? — пятьдесят шесть, — это критический возраст. В этом возрасте желание остается примерно такой же, как и раньше, — зато удовлетворение желания мстит за себя. Можно, правда, по-разному смотреть на жизнь и ценить в ной совершенно разные вещи; и, имей я дело с престарелым бонвиваном, я мог бы, естественно, ожидать совершенно логического с его точки зрения ответа: а мне наплевать, какой смысл лишать себя главного в жизни ради того лишь, чтобы сохранить самое эту жизнь. Но я ведь знаю, что подобные рассуждения противны вашему миропониманию. Мой долг врача в данном случае разъяснить и предупредить — это все, что я могу сделать, да я и не сомневаюсь, что этого вполне достаточно. Мне трудно себе представить, чтобы вам нравилось умереть смертью нашего любвеобильного Фредерика Первого, царствие ему небесное, или же, если взять недавний случай, французского президента Феликса Фора…
Я старался не смотреть на него все то время, что говорил. А когда я кончил, то увидел, что он сидит, прикрыв глаза рукой, и губы его шевелятся, и я скорее угадал, нежели услышал: «Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое… и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого…»
Я сел за письменный стол и выписал ему немного дигиталиса.
И прибавил, протягивая ему рецепт:
— Кроме того, вам вредно в эдакую жару сидеть все лето в городе. Вам бы очень хорошо месяца на полтора куда-нибудь на воды: Порла или Роннебю. Но только поезжайте, разумеется, один.
5 июляЛетнее воскресенье. Пыль и духотища повсюду, и один лишь бедный люд никак не угомонится. А бедный люд, к сожалению, мало симпатичен.
Около четырех часов я сел на маленький паровой катер и поехал в Зоологический пообедать. Экономка моя получила приглашение на похороны, после которых предполагалось кофепитие на лоне природы. Покойный ей, собственно, никто, ни близкий родственник и ни друг, но для женщины ее среды похороны — немалое развлечение, и у меня недостало духу отказать ей. Поэтому обеда дома не было. Я, правда, тоже зван был к одним моим знакомым на виллу в шхерах; но ехать мне решительно не хотелось. Я не питаю особого пристрастия ни к знакомым, ни к виллам, ни к шхерам. И менее всего к шхерам. Ландшафт — какой-то бефстроганов. Холмики кусочками, водичка кусочками, утесики кусочками и растительность кусочками. Блеклый и бедный ландшафт, холодный по тону, все больше серое и голубое, и вместе с тем недостаточно бедный, чтобы обладать величием пустыни. Когда кто-нибудь принимается расхваливать при мне красоты природы в шхерах, я всегда подозреваю, что в мыслях-то у него при этом совсем иное, и на поверку так оно обыкновенно и оказывается. Один имеет в виду свежий воздух и прекрасные купания, другой собственную яхту, а третий окуней, и все это идет у них под рубрикой «красоты природы». На днях я разговаривал с одной барышней, и она безумно восторгалась шхерами, но по ходу разговора выяснилось, что подразумевала она солнечные закаты да еще, верно, какого-нибудь студентика. Она упустила из виду, что солнце-то заходит повсюду и что студент — это некая движимость. Не думаю, чтоб я был настолько уж невосприимчив к красотам природы, но, но мне, коли уж ехать куда, так подальше, на озеро Веттерн, либо же в Сконе, либо к морю. Вот только выбраться все недосуг, а поблизости, в каких-нибудь трех-четырех милях от Стокгольма, я ни разу еще не встречал ландшафта, который мог бы сравниться с самим Стокгольмом — с Зоологическим, Хага-парком, набережной Стрёммена перед Гранд-отелем. Оттого-то я чуть не круглый год и торчу в городе, и тем охотнее, что, как всякий наблюдатель-одиночка, испытываю неутолимую потребность видеть вокруг себя людей — притом людей посторонних, с которыми не нужно раскланиваться и разговаривать.
Я, стало быть, приехал в ресторан и сразу занял столик у застекленной стены. Официант поспешил вручить мне меню, деликатно прикрыл чистой салфеткой объедки телячьего жаркого, оставленные предыдущими посетителями, и, проворно подав карточку вин, коротко, быстро кинул: «Шабли?» — обнаружив этим вопросом, что память его хранит, вероятно, не меньшие запасы разных мелких сведений, нежели иная профессорская. Я не такой уж рьяный любитель вин, но когда обедаю не дома, то и правда пью почти исключительно одно шабли. А он не новичок в своем деле и клиентов своих знает как облупленных. Первое волнение молодой крови он усмирял, балансируя подносами с пуншем в «Бернсе»; приобретя с возрастом солидность, исправлял более сложные обязанности старшего официанта в «Гамбургской бирже» и «У Рюдберга»; и кто знает, какому капризу фортуны обязан он тем, что, чуть оплешивевший и в чуть залоснившемся фраке, делал он теперь свое дело в заведении попроще. С годами он стал неотделимой принадлежностью тех мест, где пахнет съестным и хлопают пробки. Я рад был его видеть, и мы обменялись понимающими взглядами.