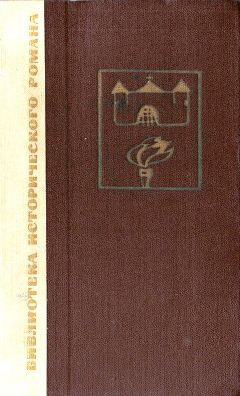Хосе Рисаль - Не прикасайся ко мне
— Есть у вас глаза или нет? — прошипела она.
— Есть, сеньора, целых два и получше, чем у вас, но я засмотрелся на ваши локоны, — ответил не слишком галантный офицер и отошел в сторону.
Повинуясь инстинкту и привычке, оба священника направились к почетному месту во главе стола. Тут, как и следовало ожидать, они повели себя подобно претендентам на кафедру, которые, превознося заслуги и добродетели соперника, тут же стараются его уязвить, а если не достигают намеченной цели, открыто злословят.
— Прошу вас, отец Дамасо!
— Прошу вас, отец Сибила!
— Как более старый друг дома… исповедник усопшей… ваш возраст, достоинство, авторитет…
— Ну, не очень-то старый! Напротив, вы как священник этого прихода! — хмуро отвечал отец Дамасо, не выпуская, однако, стула из своих рук.
— Если вы приказываете, я повинуюсь! — заключил отец Сибила, намереваясь сесть.
— Нет-нет, я не приказываю, — запротестовал францисканец, — не приказываю!
Отец Сибила уже садился, не обращая внимания на эти протесты, как вдруг встретился глазами с лейтенантом. Военный в самом высоком чине, по мнению филиппинских церковников, ниже последнего свинопаса. «Cedant arma togae»[28], — сказал Цицерон в сенате; «Cedant arma cottae»[29], — говорят монахи на Филиппинах. Но отец Сибила был человеком воспитанным и потому заметил:
— Сеньор лейтенант, мы здесь в миру, а не в церкви; место принадлежит вам.
Но, судя по тону священнослужителя, и в миру это место оставалось за ним. Лейтенант, — возможно, чтобы никого не обидеть или чтобы не сидеть между двух монахов, — поспешно отказался от такой чести.
Никто из претендентов и не вспомнил о хозяине дома. Ибарра видел, как тот с довольной улыбкой наблюдал эту сцену.
— О дон Сантьяго! А вы разве не сядете вместе с нами?
Но все места были уже заняты; Лукулл не пировал в доме Лукулла[30].
— Не волнуйтесь! Не вставайте! — сказал капитан Тьяго, опуская руку на плечо юноше. — Этим праздником мы воздаем пресвятой деве за ваш приезд. Эй! Пусть несут тинолу. Я велел приготовить тинолу для вас, вы ведь так долго ее не ели.
Внесли огромную чашу, над которой клубился пар. Доминиканец, произнеся скороговоркой «Benedicite»[31], в ответ на которую почти никто не сказал «аминь», начал разливать тинолу. Но, то ли по недосмотру, то ли по какой другой причине, отцу Дамасо досталась тарелка, где среди многочисленных кусков тыквы в щедро налитом бульоне плавали только голая куриная шейка и тощее крылышко, тогда как другие ели ножки и грудки, а в тарелку Ибарры, как нарочно, попали даже потроха. Францисканец все это заметил, пожевал тыкву, отхлебнул бульона, бросил с шумом ложку и резко оттолкнул от себя тарелку. Доминиканец в это время о чем-то рассеянно переговаривался со светловолосым юношей.
— Сколько лет прошло, как вы уехали отсюда? — просил Ибарру Ларуха.
— Почти семь.
— Вы, верно, совсем забыли родину?
— Напротив: я всегда думал о моей стране, хотя она, кажется, забыла меня.
— Что вы хотите этим сказать? — вмешался светловолосый.
— Лишь то, что уже более года не получал известий с родины, и вот теперь чувствую себя чужаком, который даже не знает, когда и как умер его отец!
— О! — воскликнул лейтенант.
— Так где же вы были сами и почему не послали телеграмму? — спросила донья Викторина. — Когда мы с мужем поженились, мы тотчас телеграфировали в Испанию.
— Сеньора, эти последние годы я был на севере Европы: в Германии и русской Польше.
Доктор де Эспаданья, до сих пор не решавшийся вымолвить слово, счел уместным вмешаться.
— Я з…знал в Испании одного поляка из Ва… Варшавы по имени Стадницкий, если не ошибаюсь; вы его с…случайно не встречали? — спросил он робко, краснея от смущения.
— Очень возможно, что встречал, — вежливо ответил Ибарра, — но сейчас не припомню.
— Вы его, однако не м…могли ни с кем другим с…спутать! — прибавил доктор, набравшись храбрости. — Волосы у него как золото, и он очень плохо говорит по-испански.
— Приметы запоминающиеся, но я, к сожалению, ни слова не говорил там по-испански, разве что в некоторых консульствах.
— И как же вы обходились без языка? — спросила пораженная донья Викторина.
— Я объяснялся на языке той страны, где жил, сеньора.
— Вы и по-английски говорите? — спросил доминиканец, который жил в Гонконге и бегло говорил на пиджин-инглиш[32], этом исковерканном сынами Небесной империи[33] языке Шекспира.
— Я пробыл год в Англии среди людей, говорящих только по-английски.
— Какая же страна в Европе больше всего вам нравится? — спросил светловолосый юноша.
— После Испании, моей второй родины, — любая свободная страна Европы.
— Вот вы много путешествовали… что же показалось вам наиболее примечательным? — спросил Ларуха.
Ибарра, казалось, призадумался.
— Примечательным? В какой же области?
— Например… в жизни этих народов… в социальной, политической и религиозной жизни — в частностях или в целом…
Ибарра довольно долго собирался с мыслями.
— Откровенно говоря, меня там ничто не поразило, кроме их национального тщеславия… Перед тем как посетить страну, я усердно изучал ее историю, так сказать, ее «Исход»[34], и потому мне все казалось там вполне естественным. Я всякий раз убеждался в том, что процветание или нищета народов прямо связаны с имеющимися у него свободами и его устремлениями, и следовательно, с жертвами, принесенными его предками, или с их эгоизмом.
— И это все, что ты там разглядел? — спросил, насмешливо осклабясь, францисканец, который с самого начала ужина не проронил ни слова, — возможно, из-за того, что был слишком занят едой. — Нечего было швырять на ветер деньги, чтобы узнать такую ерунду! Любой школяр это знает!
Ибарра не нашелся сразу что ответить; остальные, удивленно переглядываясь, ждали скандала. «Ужин идет к концу, и его преподобие, видно, хлебнул лишнего», — едва не сорвалось у юноши с языка, но он сдержался и сказал лишь следующее:
— Сеньоры, пусть вас не удивляет фамильярность, с какой обратился ко мне наш прежний священник: так он разговаривал со мной, когда я был ребенком; видно, годы проходят бесследно для его преподобия. Но я за это ему лишь благодарен, потому что мне живо вспоминаются те дни, когда его преподобие частенько бывал в нашем доме и не брезговал столом моего отца.
Доминиканец украдкой взглянул на францисканца, затрясшегося от гнева. Ибарра продолжал:
— Разрешите мне покинуть вас, так как я только что прибыл и завтра утром должен уже уехать отсюда, а у меня еще много дел. Ужин, можно сказать, окончен, а вина я почти не пью, тем более ликеров. Сеньоры, за Испанию и Филиппины!
И он выпил рюмку, к которой до сих пор не притрагивался. Старый лейтенант молча последовал его примеру.
— Не уходите! — шепнул ему капитан Тьяго. — Сейчас придет Мария-Клара: Исабель пошла за нею. Должен явиться и новый священник нашего городка, он — просто святой.
— Я зайду завтра перед отъездом! Сегодня мне необходимо нанести один очень важный визит.
И он удалился. Францисканец меж тем кипел от ярости.
— Вы видели? — говорил он белокурому молодому человеку, размахивая десертным ножом. — Вот она, гордыня! Не могут стерпеть, когда их бранит священник! Уже мнят себя важными птицами! Бед не оберешься от этой скверной затеи — посылать мальчишек в Европу! Правительство должно положить этому конец.
— А лейтенант-то каков? — проговорила донья Викторина, поддакивая францисканцу. — Весь вечер просидел с кислой физиономией. Хорошо, что наконец ушел. Старик, а всего лишь лейтенант!
Сеньора не могла простить ему оттоптанных оборок своих юбок и намека на фальшивые кудряшки.
Тем же вечером белокурый молодой человек записал в своих «Колониальных очерках», кроме всего прочего, название следующей главы: «Как куриная шейка и крылышко в тарелке монаха могут омрачить веселье праздничного вечера». Среди его записей были такие: «На Филиппинах самым ненужным лицом на праздниках и вечерах считается тот, кто их устраивает: хозяина дома можно выставить на улицу, и гости от этого ничего не потеряют»; «При нынешнем положении вещей следовало бы, по-видимому, запретить филиппинцам — для их же блага — выезжать из своей страны и обучаться грамоте».
IV. Еретик и флибустьер
Ибарра минуту стоял в нерешительности. Однако вечерний ветерок, который в это время года бывает в Маниле довольно свеж, казалось, развеял облако, нависшее над ним; юноша снял шляпу и вздохнул.
Мимо него мчались экипажи, тащились, словно катафалки, наемные кареты, спешили прохожие разных национальностей. То ускоряя шаг, то останавливаясь, — так ходят люди, погруженные в свои мысли, или бездельники, — Ибарра держал путь к площади Бинондо, он то и дело оглядывался по сторонам, как бы что-то разыскивая. Те же улицы с теми же домами, выкрашенными белой и голубой краской, с побеленными или скверно разрисованными под гранит оградами, на колокольне красуется все тот же освещенный изнутри циферблат; ничуть не изменились и лавочки китайцев с их грязными занавесками и железными решетками, одну из которых он сам погнул как-то вечером, подражая озорникам из Манилы: решетку так никто и не исправил.