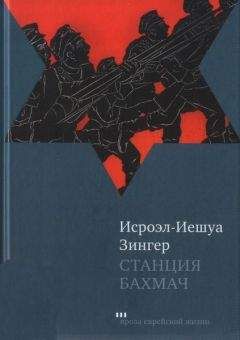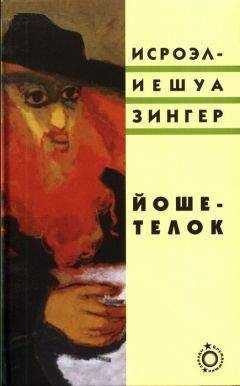Исроэл-Иешуа Зингер - Чужак
Ойзер об этом и слышать не хотел. Во-первых, он должен был выполнить наказ, данный ему отцом на смертном одре. Во-вторых, он ненавидел торговлю, поэтому даже за лес не сильно держался. В мануфактурной же торговле, в расходах и доходах он ровным счетом ничего не понимал. В-третьих, он на дух не переносил ни Ямполье, ни его обывателей. Ойзеру, рожденному и выросшему в Кринивицах, теснило дыхание, когда требовалось провести несколько часов в местечке. Кроме того, он не умел обходиться с тамошними обитателями. Он больше бурчал, чем разговаривал с ними, и переводил дух только тогда, когда лошади выезжали на дорогу. В общем, Ойзер и слышать не хотел о том благоденствии, которое ему прочили маклеры.
— Не нужна мне никакая мануфактурная лавка на ямпольском рынке, — сердито буркал он маклерам. — Ступайте себе с миром, люди добрые, туда, откуда пришли.
В первое время он обходил свой большой земельный надел и по-хозяйски беседовал с десятком мужиков и баб, работавших в усадьбе. С блестящей черной бородой, незаметно подстриженной по краю так, чтобы она закруглялась, в белоснежном, выглаженном воротничке и с позолоченной цепочкой от полученных на свадьбу часов, переброшенной из одного кармана бархатного в крапинку жилета в другой, он пробирался среди картофельных гряд и хлебных полей, заливных лугов и глинистых пустошей и на помещичьем польском, грубо рокочущем и повелительном, командовал босоногими мужиками и бабами, чтобы те не ленились. Вскоре он отказался от помещичьего наряда, сперва — от выглаженного воротничка, потом — от бархатной жилетки, и сам стал участвовать в работе.
Следом за Ойзером, помогая ему в работе, смеясь и напевая, ходили обе дочери, Маля и Даля. Деревенский меламед возмущался, почему они не переписывают красивым почерком прописи, которые он для них написал. Мать глаза выплакала оттого, что среди крестьян и крестьянских девок ее дочки станут Бог знает кем. Она хотела научить их всему, что должна знать еврейская девушка из почтенной семьи, и прежде всего рукоделию: вышивать и плести, вязать и штопать. Девушки же не хотели ни переписывать прописи деревенского меламеда, ни вышивать цветы и листья на полотне. В веночках из белых полевых цветов на черных как смоль волосах, босоногие, в подобранных до колен платьях, они бывали повсюду наравне со всеми усадебными девками. Они вынимали яйца из курятника, поили телят около усадебного колодца, доили коров в хлеву и копали картошку в поле.
И даже по вечерам матери с трудом удавалось зазвать их домой. Каждый вечер хромой пастух Болек выгонял лошадей в луга, далеко-далеко, к самой границе поместья. На своей деревянной ноге, подкованной железом, старый Болек ловко управлялся с лошадьми. Спутав им передние ноги, чтобы они не разбрелись, он загонял их в заливные луга, где лошадей почти не было видно среди густой травы. Сам он усаживался на пригорке, вырезал дудочки из веток и играл длинные печальные пастушьи песни.
Маля с Далей привязались к хромому старому Болеку, по вечерам приходили к нему в луга и приносили ему из дома халы, оставшиеся от субботы. Болек несколькими оставшимися во рту зубами жадно откусывал кусок халы и глухим голосом рассказывал истории о былых временах. У Болека было полно историй: о войне, на которой он потерял ногу, о разных помещиках, у которых он служил, об их усадьбах, балах, дочерях, собаках и лошадях, но больше всего он мог рассказать об окрестных полях, лесах и лугах. Болек знал, что светляки, которые, поблескивая, летают над кринивицкими лугами, на самом деле никакие не светящиеся червячки, как люди думают, а блуждающие души, которые много нагрешили при жизни и поэтому не могут попасть в рай, вот и блуждают в воздухе; а в болотах, где квакают лягушки, живут черти, подстерегающие девушек, которые выходят вечером из дома без передника, и лошадей, что пасутся на лугах. Лошадиные черти очень вредные и большие проказники. Они любят заплетать косички в конских гривах. Их можно увидеть, пока они шмыгают возле конских копыт. И даже полевки не просто ночные твари, а тоже бесы, из тех, что любят вцепиться в девичьи волосы и наделать в них колтунов. А еще в гнилом дереве и в торфяниках живут злыдни, потому-то и можно увидеть, как оттуда выходит само собой голубое пламя, хотя никто ничего не поджигал. Эти-то злыдни и поджигают торфяники. От чертей Болек переходил к лесным разбойникам, цыганам, колдунам и ведьмам. Маля и Даля все шире и шире раскрывали глаза, слушая истории старого пастуха. И еще, хоть они уже не раз слышали об этом, им снова хотелось послушать, как это так вышло, что Болек остался один-одинешенек на белом свете.
— Всё из-за ноги, девочки, — ворчал Болек. — Деревенские девки меня и знать не хотели. Деревянная нога, так они меня звали, вот я и остался один-одинешенек… Видать, так Бог судил…
Хане приходилось много раз кричать в тихую деревенскую ночь, десятки раз звать Малю и Далю, прежде чем девушки отрывались от старого Болека и его историй.
Тоскливо было в Кринивицах по субботам, зимой, но тоскливее всего — в дождливые осенние дни.
По субботам Хана, как и прежде, когда был жив свекор, расстилала белую скатерть на большом дубовом обеденном столе, благословляла свечи в серебряных подсвечниках, которых, после всех растаскиваний, все еще было много в доме. Как и прежде, она надевала на себя в честь субботы весь свой жемчуг и крупные серьги. Но в молитве без миньяна не чувствовалось вкуса субботы. Ойзер буднично бродил взад-вперед по комнате и тихо, так что и слова было не разобрать, бормотал «Лехо дойди»[31]. Деревенский меламед, в субботней шляпе, но в будничной капоте, вторил будничному бормотанию хозяина. Так же тоскливо проходила трапеза. Ойзер сидел на отцовском стуле, но его кидуш был лишен субботнего напева и субботнего аромата. Три четверти мест за столом были пусты. Деревенский меламед часто вздыхал. Иногда, когда какой-нибудь побирушка забредал в усадьбу и оставался на субботу, у Мали и Дали появлялось хоть какое-то развлечение. Хотя девушки и брезговали халой, от которой нищие отрезали ломти своими грязными руками с длинными ногтями, их смешили ужимки и гримасы побирушек.
Изголодавшиеся, в оборванных капотах, подпоясанных по бедрам кожаными ремнями, нередко калеки: горбатые, заики или глухие, заросшие, лохматые, — они чавкали, набивали полный рот, пережевывали пищу, как коровы, вылизывали тарелки, не переставая бормотать себе под нос что-то неразборчивое. Маля и Даля щипали друг друга чуть не до крови, изо всех сил старались сидеть за столом прилично, но, глядя на выходки нищих, разражались смехом. Ойзер переглядывался с женой.
— Девочки дичают в деревне, — вздыхала Хана, — совершенно невоспитанные…
— Маля! Даля! — сердито ворчал Ойзер. — Суббота!..
Двадцать четыре часа субботы были мукой мученической. Делать ничего нельзя, побегать нельзя. К чему ни прикоснись, всё осквернение субботы, грех. Хана раскрывала Тайч-Хумеш и нараспев читала дочерям. Но Маля и Даля уже знали все истории с прошлого года, с позапрошлого года и всеми силами сдерживали себя, чтобы не рассмеяться от старинного слога, который мать благочестиво тянула нараспев. Больше всего смешил их рабейну Бехай. Каждый раз, когда мать произносила «рабейну Бехай говорит», на них нападал дикий смех. Хана краснела от гнева.
— Что это еще за насмешки над праведником? — хотела она знать. — Что смешного в рабейну Бехае?
Девочки сгибались в три погибели.
— Я не знаю, но это очень смешно, — хихикая, отвечала Маля.
— Очень смешно, — как эхо повторяла Даля.
Но еще тоскливее, чем по субботам, было зимой, и особенно в дождливые осенние дни. Глинистая почва размякала и липла к ногам так, что поставишь ногу — не вытащишь. Глина облепляла обувь обитателей усадьбы, босые ноги крестьян и крестьянок, мохнатые ноги скотины. С соломенных крыш капало. Ветер раскачивал деревья, свистел, жаловался. С лугов и торфяников поднимались густые туманы и испарения. Переставшая дымиться труба заброшенного кирпичного завода тянулась в высоту, готовая вот-вот рухнуть. Вороны, которые прятались в ней от дождя, оглушительно каркали. Маля и Даля слонялись под дождем, иссеченные ветром, промокшие до костей. Вместе с ними бегали две дворовые собаки, Бурек и Бритон, мать и сын, которые жили как сука с кобелем. Промокшие до того, что аж пар поднимался от их лохматых шкур, они не переставали обнюхивать друг друга, играть друг с другом, кусать друг друга, кувыркаться и поминутно напрыгивать своими перепачканными глиной передними лапами на мокрые платья Мали и Дали. Так же как собаки, обе сестры, промокшие, в пару, толкали друг друга, гонялись друг за другом по глинистой земле, таскали друг друга за волосы, хватали друг друга за руки, целовались и смеялись. Голодные, как волки, они вваливались в перепачканной глиной обуви в дом: