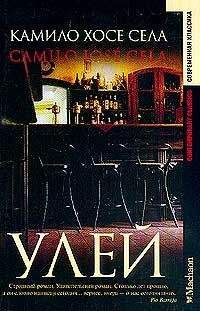Камило Села - Семья Паскуаля Дуарте
– Вы знаете.
– Видал, что ты сделал с ней? – Хорошо сделал.
– Хорошо?
– Да, хорошо! Разве она несовершеннолетняя?
Мать молчала; я не думал, что она будет такая покладистая.
– Я хотел поговорить с вами.
– О чем?
– О вашей дочке. Я хочу жениться на ней.
– Хотеть мало. Ты решил окончательно? – Да, окончательно.
– А обдумал хорошо?
– Очень хорошо.
– За такое малое время?
– Времени было достаточно.
– Ну погоди, я позову ее.
Старуха вышла и долго не возвращалась; видно, они спорили. Вернувшись, она привела Лолу за руку.
– Вот гляди, он хочет на тебе жениться. Пойдешь за него замуж?
– Пойду.
– Славно, славно… Паскуаль – славный парень, я наперед знала, как он поступит.,. Ну, целуйтесь!
– Мы уже целовались.
– Целуйтесь опять, чтоб я видела.
Я подошел к девушке и поцеловал ее, поцеловал с напряжением всех сил, крепко прижав к груди, не обращая внимания на присутствие матери. Однако этот первый дозволенный поцелуй мне на вкус не понравился, те, первые, на кладбище, что казались уже такими далекими, были куда слаще.
– Можно я останусь?
– Оставайся.
– Нет, Паскуаль, нельзя, пока нельзя еще.
– Можно, дочка, можно. Он ведь будет твой муж, разве нет?
Я остался и провел с ней ночь.
На другой день с самого утра я отправился в церковь и вошел в ризницу, где дон Мануэль облачался к ранней обедне, которую он служил для дона Хесуса, его домоправительницы и еще двух-трех старух. Увидав меня, он удивился.
– Ты каким образом здесь?
– Да вот, дон Мануэль, разговор у меня к вам.
– Долгий?
– Да, сеньор.
– Можешь подождать, пока я отслужу обедню?
– Да, сеньор, мне не к спеху.
– Ну, тогда подожди.
Дон Мануэль отворил дверь ризницы и указал мне скамью, обыкновенную скамью, как во всех церквах, деревянную и некрашеную, жесткую и холодную, как камень, на которых, однако, случается переживать прекрасные минуты.
– Сядешь там. Увидишь, что дон Хесус опускается на колени, опускайся и ты; увидишь, что дон Хесус подымается, и ты подымайся; увидишь, что дон Хесус садится, и ты садись.
– Ладно, сеньор.
Обедня, как все обедни, продолжалась чуть больше получаса, но эти полчаса пролетели для меня незаметно.
Когда она кончилась, я вернулся в ризницу. Дон Мануэль разоблачался.
– Ну, говори.
– Видите, я жениться хочу.
– Одобряю, сын мой, одобряю. Для того господь и создал мужчин и женщин – для продолжения рода человеческого.
– Да, сеньор.
– Очень хорошо. А на ком? На Лоле?
– Да, сеньор.
– Давно надумал?
– Нет, сеньор, вчера…
– Как, только вчера?
– Только вчера. Вчера она сказала мне про свое дело.
– Стряслось что-нибудь?
– Да.
– В положении, что ли?
– Да, сеньор, в положении.
– Ну, что ж, сын мой, самое лучшее вам пожениться. Бог вам все простит, а во мнении людей вы еще и подниметесь. Ребенок, рожденный вне брака,– грех и поношение, а для родителей, женатых по христианскому обычаю,– благословение господне. Бумаги я тебе выправлю. Вы не двоюродные?
– Нет, сеньор.
– Тем лучше. Приходи через две недели, все будет готово.
– Хорошо, сеньор.
– А теперь ты куда?
– Работать, куда ж еще.
– Может, перед тем исповедаешься?
– Ну, ладно…
Я исповедался и почувствовал себя умягченным и разглаженным, как будто меня выкупали в горячей воде.
(8)
Спустя чуть больше месяца, 12 декабря, в день богоматери Гуадалупской, который в том году пришелся на среду, и выполнив предварительно все, что положено по закону церкви, мы с Лолой поженились.
Меня томило беспокойство и как бы раздумье, как бы страх перед шагом, который я собирался совершить, – черт возьми, женитьба дело нешуточное! – и порой на меня нападала такая оторопь и слабость, что, поверьте, я готов был все кинуть и идти на попятный, и так бы и сделал, если б не мысль, что поскольку трезвон подымется до небес, а я, если разобраться, боюсь его не меньше, то лучше уж вести себя смирно и будь что будет. Наверно, бараны, которых гонят на бойню, рассуждают так же, а о себе могу сказать: был момент, когда мне казалось, что сойду с ума от того, что на меня надвигается. Не знаю, нюхом ли я чуял, что меня ждет беда. Хуже всего, что этот самый нюх не ручался мне, что я буду счастливей, если останусь холост.
Поскольку я по пожалел па свадьбу всех сбережений, какие у меня были, – женился против воли – одно, а поддерживать свое положение в обществе – другое, она вышла у нас если не пышная, то, во всяком случае, не хуже, чем у людей. В церкви я велел поставить маки и цветущий розмарин, в ней стало приятно и гостеприимно, и потому, может, не так чувствовался холод сосновых скамеек и каменного пола. Невеста в черном – в облегающем платье из полотна высшего качества, на голове кружевная фата, подаренная крестной, в руке букет апельсиновых цветов – выступала такая статная и уверенная в себе, что глядела прямо королевой; на мне был нарядный голубой костюм в красную полоску, купленный в Бадахосе, черный атласный козырек, который я в тот день обновил, на шее шелковый платок, на животе цепочка. Мы были красивая пара, уверяю вас, – молодые, хорошо одетые! Ах, как далеко ушло то время, когда минутами еще мерещилось, что счастье возможно!
Посаженными у нас были сеньорито Себастьян, аптека-рев – дона Раймундо – сын, и сеньора Аурора, сестра священника. Дон Мануэль благословил нас и под конец закатил проповедь втрое длиннее самого венчания, которую, видит бог, я вытерпел только по обязанности —такую она навела на меня скуку; он сказал нам сызнова о продолжении рода человеческого, а также про папу Льва XIII и что-то про апостола Павла и рабов… Видно, готовил речь на совесть!
Когда церковный обряд закончился, чего я уж не чаял дождаться, все мы скопом пошли ко мне в дом, где без особых удобств, зато от чистого сердца было выставлено вдоволь еды и питья, чтоб накормить-напоить до отвала всех, кто пожаловал, и еще вдвое больше народу. Для женщин был шоколад с хворостом, миндальными тортами, коврижками, смоковными хлебцами, а для мужчин – мансанилья и на закуску ломтики копченых сосисок и кровяной колбасы, маслины, сардины из банок. Знаю, были в деревне люди, которые осуждали меня за то, что я не устроил обеда, – ну их! Могу вас уверить, что ублаготворить их мне дороже не обошлось бы, а если я предпочел уклониться, так потому что был по рукам связан желанием поскорей уехать вместе с женой. Совесть моя чиста – положенное я исполнил, и не хуже других, и этого с меня довольно, а что до пересудов – не к чему их слушать!
Почтив гостей, я, как только улучил момент, вывел жену, подсадил ее на круп кобылы, украшенной по такому случаю нарядной сбруей, которую мне одолжил сеньор Висенте, и шажкам, с опаской, как бы жена не свалилась выехал на большак и направил путь к Мериде, где мы провели три дня – пожалуй, три самых счастливых дня в моей жизни. По дороге мы останавливались передохнуть раз, наверное, шесть; теперь я дивлюсь и сам себе не верю, вспоминая, с каким упоением мы вместе рвали ромашки и втыкали их друг другу в волосы. Похоже, что к новобрачным вдруг неожиданно возвращается все простодушие детского возраста.
Когда мы ровной, мерной рысью въезжали в город по римскому мосту, нам не повезло – кобыла испугалась, может, реки, кто ее знает, и так брыкнула прохожую старуху, что бедняга полетела кувырком и чуть не свалилась вверх тормашками в Гуадиану. Я быстро спешился ей на помощь: благородному человеку удирать не пристало, однако старуха, по моему впечатлению, отделалась одной досадой; я дал ей реал, чтоб никому не жаловалась, похлопал по спине и пошел обратно к Лоле. Лола смеялась, и меня ее смех, поверьте, сильно огорчил; не знаю, было ли то предчувствие, как бы подсказка сердца, что с ней стрясется позже. Негоже смеяться над несчастьем ближнего – это говорит вам человек, который сам всю свою жизнь был очень несчастен; господь побивает без палки и без камня, и ведомо – кто меч подымет… Но с другой стороны, даже и без того, человеколюбие – оно никогда не мешает.
Мы поселились на заезжем дворе Мирло, в большой комнате справа от входа, и первые два дня все миловались и не казали на улицу носа. В комнате было хорошо, просторно; потолок высокий, державшийся на крепких каштановых балках; плитяной пол чистый, много удобной мебели, пользоваться которой одно удовольствие. Память об этой спальне всю жизнь меня не покидала, как верный друг; кровать была самая величественная из всех, какие довелось мне видеть, с изголовьем резного ореха, с четырьмя тюфяками, набитыми мытой шерстью… До чего сладко на ней спалось, впору королю! Был там еще комод, высокий и пузатый, как бабища, с четырьмя глубокими ящиками с золочеными ручками и шкаф, доходивший до потолка, с широким зеркалом высшего качества и двумя стройными подсвечниками того же дерева – по одному с каждой стороны для лучшего освещения фигуры. Даже рукомойник – они обычно хуже всего – был в этой комнате нарядный: легкие гнутые ножки из бамбука и белый фаянсовый таз, расписанный по краю птичками, красили его и делали привлекательным. На стенах висели – над кроватью большая литография в четыре цвета, изображавшая страсти Христовы; затем бубен с красными и желтыми лентами и кистями и нарисованной на нем разноцветной севильской колокольней; две пары кастаньет по бокам, а также живописная картина «Римский цирк», которую я всегда считал проз ведением большой ценности. Были там еще часы на комоде, с маленьким циферблатом в виде земного шара, лежавшего на плечах у голого мужчины, и две талаверские вазы голубой росписи, немного уже поблекшие, но сохранившие этот свой блеск, который придает им такую приятность. Стулья, числом всего шесть, из них два с подлокотниками, были с высокими спинками и прочными ножками, под зад, извиняюсь, подложен алый бархат, и такие удобные, что я, вернувшись домой, страшно о них жалел, – а уж как жалею теперь, сидя здесь, не стоит и говорить. До сих пор о них вспоминаю, несмотря на прошедшие годы!