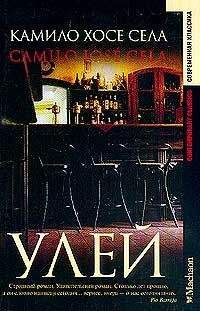Камило Села - Семья Паскуаля Дуарте

Обзор книги Камило Села - Семья Паскуаля Дуарте
Камило Хосе Села
Семья Паскуаля Дуарте
Посвящаю это издание моим врагам, которые столь помогли мне в моей карьере
ЗАМЕЧАНИЕ ПЕРЕПИСЧИКА
По-моему, пришла самая пора издать воспоминания Паскуаля Дуарте. Сделать это раньше значило б, пожалуй, проявить излишнюю поспешность; я, не хотел торопиться с их подготовкой к печати, потому что всякий труд, включая исправление орфографических ошибок в рукописи, требует времени, да вскачь, как говорится, и пахать без толку. Сделать это позднее было б, с моей стороны, ничем не оправдонной проволочкой: раз труд закончен, он должен быть обнародован.
Отыскав приводимые далее записки в середине 1939 года в одной из аптек Альмендралехо, где их оставила бог знает чья неведомая рука, я беспрерывно с тех самых пор на досуге разбирал их и приводил в порядок, ибо отчасти из– за плохого почерка, отчасти из-за того, что найденные четвертушки листа не были пронумерованы и лежали не в идеальной последовательности, рукопись едва поддавалась прочтению.
С самого начала хочу со всей ясностью заявить, что мое участие в создании произведения, которое я предлагаю теперь любознательному читателю, ограничилось его перепиской; я не переправил и не добавил от себя ни единой буквы, желая сохранить в неприкосновенности даже стиль повествования. В некоторых чрезмерно грубых местах я предпочел воспользоваться ножницами и прибег к хирургической операции, что, естественно, лишает читателя возможности ознакомиться с некоторыми мелкими подробностями (не зная которых, он ничего не теряет), но зато имеет то преимущество, что избавляет его от интимных признаний отталкивающего свойства, которые, повторяю, я счел более уместным вырезать, нежели приглаживать.
Герой, на мой взгляд, являет собой единственный в своем роде пример поведения (только потому я и вытаскиваю его на свет божий) – пример не для подражания, а для избежания, пример, перед которым смолкает любое сомнение, пример, перед которым достаточно сказать: «Видишь, что он делает? Ну, так надо как раз наоборот».
Однако предоставим слово Паскуалю Дуарте – ему есть что порассказать нам интересного.
СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К РУКОПИСИ
Сеньору дону Хоакину Баррере Лопесу,
Мерида.
Глубокоуважаемый сеньор, Вы простите меня, что посылаю вам при этом письме, и без того длинном, мою длинную повесть, но потому как случилось, что из друзей дона Хесуса Гонсалеса де ла Ривы (бог да простит его, как, не сомневаюсь, сам он простил меня) вы единственный, чей адрес мне запомнился, я решил отправить ее вам, чтобы от нее избавиться, а то при одной мысли, что я написал ее, меня в жар кидает, и в худую минуту, которых, по воле бога, перепадает мне ныне много, я могу ее выбросить и тем лишить иных людей возможности крепко– накрепко затвердить себе то, что сам я узнал, когда было уже поздно.
Немного поясню вам, в чем дело. Поскольку для меня не тайна, что, на беду мою, поминать меня будут больше лихом, и мне хочется облегчить, насколько возможно, мою совесть открытой исповедью, а это довольно тяжелый вид покаяния, я решил рассказать из моей жизни что помню. Память у меня никогда не была особо крепкая, и легко может статься, что многое, даже интересное, я перезабыл, но, несмотря на это, я положил рассказать все, что не выветрилось из головы и не отказалась писать рука, а было еще и другое, и я пытался его описать, но на душе у меня стало так муторно, что я предпочел о нем умолчать и позабыть навсегда. Принимаясь за такие записки, я хорошо понимал, что настанет в моей жизни событие, описать которое я никак не смогу, – это моя смерть, да сделает господь ее быстрой; над этим вопросом поломал я голову немало и – готов поклясться вам жалким остатком жизни – не раз боялся лишиться чувств оттого, что рассудок не давал мне ответа, на чем же мне поставить точку. Я надумал, что лучше всего начать, а развязку возложить на бога – когда он руку мою остановит, тогда и ладно, – и так я и сделал; и вот сегодня, чувствуя, что мне уже опостылела вся эта прорва бумаги, заполненной моей болтовней, я окончательно бросаю писать и предоставляю вам самому докончить в воображении мою жизнь – докончить ее вам будет нетрудно, поскольку, помимо того, что жить мне заведомо осталось недолго, не думаю, чтоб в этих четырех стенах со мной приключились новые важные события.
Когда я начинал составлять то, что вам теперь посылаю, меня терзала мысль, что кто-то уже знает, завершу я мою повесть или нет и на каком месте прерву ее, если неверно рассчитаю время, и эта уверенность, что волей– неволей все мои действия пойдут по заранее известной колее, прямо сводила меня с ума. Теперь, стоя ближе к порогу иной жизни, я смиреннее. Да удостоит меня господь своего прощения.
Рассказав все пережитое, я замечаю в себе какую-то успокоенность, и бывает, что даже совесть мучает меня меньше.
Верю, что вы поймете и то, о чем лучше говорить вам не стану, потому что лучше того не знать. Сожалею теперь, что сбился с пути, но в этой жизни прощения не прошу. Зачем? Может, оно и к лучшему, если со мной сделают что намечено, не то я, всего вероятнее, опять примусь за старое. Не хочу просить о помиловании: слишком много зла усвоил я из жизни и чересчур слаб, чтоб противиться инстинкту. Пусть свершится то, что записано в небесной книге.
Примите, сеньор дон Хоакин, вместе с посылкой мои извинения, что побеспокоил вас, и не откажите в мольбе о прощении, с которым обращается к вам, как к самому дону Хесусу, ваш покорный слуга Паскуаль Дуарте,
Бадахосская тюрьма, 15 февраля 1937 года
ПУНКТ ИЗ СОБСТВЕННОРУЧНОГО ЗАВЕЩАНИЯ ДОНА ХОАКИНА БАРРЕРЫ ЛОПЕСА, КОТОРЫЙ УМЕР БЕЗ НАСЛЕДНИКОВ, ЗАВЕЩАВ ВСЕ СВОЕ ИМУЩЕСТВО МОНАХИНЯМ ОРДЕНА ДОМАШНЕГО УСЛУЖЕНИЯ.
4. Приказываю лежащие в ящике моего письменного стола бумаги в перевязанном шпагатом пакете с надписью красным карандашом «Паскуаль Дуарте», не читая, незамедлительно предать огню как подрывные и противные добрым нравам. Тем не менее если провидение распорядится так, что указанный пакет, без чьего-либо злонамеренного вмешательства, в течение 18 месяцев не будет сожжен согласно моему желанию, приказываю тому, кто его найдет, не уничтожать его, а взять себе в собственность и поступить с ним по своему усмотрению, если оно не противоречит моей воле.
Дано в смертный час в Мериде (Бадахос)
11 мая 1937 года.
Памяти славного аристократа дона Хесуса Гонсалеса де ла Ривы графа Торреме-хийя, который, принимая смерть от руки автора, назвал его голубчиком и улыбнулся.
П. Д.
(1)
Я, сеньор, не злой человек, хотя озлобиться причины у меня были. Все мы, смертные, в той же самой шкуре родимся, однако, покуда растем, судьба удовольствия ради изменяет нас так или эдак, будто мы из воска, и разными путями направляет к единому концу – смерти. Одним велено шествовать по дороге, устланной цветами, других посылают продираться сквозь чертополох и колючки. Те глядят безмятежно и, как младенцы, улыбаются запаху своего счастья, а эти страждут от палящего солнца равнины и, чтоб кто не тронул, щерятся, как мелкое зверье. Большая разница – натираться румянами да одеколоном или разукрашивать себя татуировкой, которую ничем не сотрешь.
Родился я тому назад уже много лет – пятьдесят пять но крайней мере – в деревне, затерянной в провинции Бадахос; деревня стояла в двух лигах от Альмендралехо, приткнувшись к проезжей дороге, гладкой и длинной, как день без хлеба, гладкой и длинной – на ваше счастье, этой глади и этой длины вы и представить себе не можете, – как дни смертника.
Деревня была жаркая, открытая солнцу, весьма обильная оливами и – с вашего позволения – свиньями, с такими белыми домами, что от одного воспоминания глазам больно, с площадью, замощенной плитами, с красивым фонтаном на три трубки посреди площади. К тому времени, как я покинул деревню, вода из отверстий не била уж несколько лет, и, однако, каким благородным, каким изящным казался всем нам этот фонтан, украшенный фигурой голого мальчика, весь в завитках наподобие цветов розмарина по краю бассейна! На площади стояла управа, большая и квадратная, как ящик из-под табака, с башней на крыше, а на башне были часы, белые, как причастная облатка, и всегда показывали девять, будто их повесили для красоты, а не для дела. Дома в деревне, само собой разумеется, были и хорошие, и плохие; плохие, как водится, преобладали. Единственный дом в два этажа – дом дона Хесуса – радовал глаз верандой в изразцах и цветочных горшках. Дон Хесус вообще очень любил растения и, сдается мне, наказал домоправительнице ходить за геранями, гелиотропами, пальмами да мя-той, как за малыми детьми: старуха вечно сновала с ковшиком и заботливо их поливала, что, несомненно, шло им на пользу – такие они были пышные и зеленые. Дом дона Хесуса тоже стоял на площади и, странное дело,– при богатстве-то хозяина, не скупившегося на траты,– отличался от остальных домов не только в хорошую сторону, как я сказал уже, но и в худую – фасад у него был цвета камня как он есть (что очень простит), а не беленый, как у всех, даже самых бедных домов, но дон Хесус, верно, имел на то свои причины. Над входом красовались каменные гербы большой, как говорят, ценности, увенчанные головами древних воинов в шлемах с перьями; головы глядели одна на восток, другая на запад как бы в знак того, что карау-лят дом от опасности, которая может оттуда прийти. За площадью, примыкая к дому дона Хесуса, стояла церковь с каменной колокольней и колоколом, звонившим по-особенному; опи-са этот звон не берусь, хотя слышу его так явственно, будто он идет из-за угла. Колокольная башня была той же высоты, ч ю и часовая, но аисты, прилетая, знали, на какой они провели прошлое лето: хромой аист, переживший у нас две зимы, был из гнезда над церковью – он вывалился оттуда птенцом, испу-гавшись ястреба.