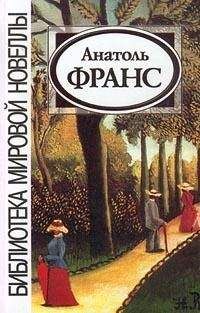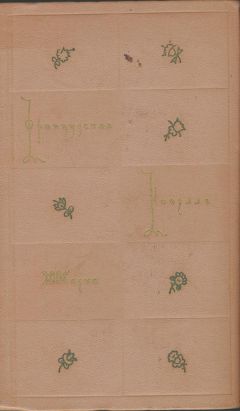Анатоль Франс - 5. Театральная история. Кренкебиль, Пютуа, Рике и много других полезных рассказов. Пьесы. На белом камне
— Поздравляю, Шевалье. Это просто потрясающе. Ты поразил нас. Можешь мне поверить. Я не одна так говорю. Фажет находит, что ты неподражаем.
— Серьезно? — спросил Шевалье.
Эта минута была одной из счастливейших в его жизни.
Вдруг с пустынных высот третьего яруса раздался пронзительный голос, прорезавший воздух, как свисток локомотива:
— Вас не слышно, дети мои: говорите громче и произносите более четко.
И высоко под куполом на полутемной галерке появился автор, маленький-премаленький.
Теперь голоса актеров, столпившихся на авансцене вокруг игроков, зазвучали более явственно.
— Император даст войскам отдохнуть три недели в Москве; а потом быстро, как орел, устремится на Санкт-Петербург.
— Пики, трефы, козырь, у меня две взятки.
— Там мы перезимуем, а весной через Персию проникнем в Индию — и тогда конец британскому могуществу.
— Тридцать шесть в бубнах.
— А у меня туз, король, дама и валет одной масти.
— Кстати, господа, что вы скажете об императорском указе, помеченном Кремлем, относительно французских актеров? Да, теперь конец всем ссорам, мадемуазель Марк и мадемуазель Левер![19]
— Посмотрите-ка, как идет Фажет голубое платье в стиле Марии-Луизы, с отделкой из шиншиллы, — сказала Нантейль.
Госпожа Дульс извлекла из-под своих мехов растрепанную пачку билетов, которые она, по-видимому, усиленно старалась всем навязать.
— Маэстро, вы, верно, слышали, — сказала она Константену Марку, — что в будущее воскресенье я выступаю с чтением лучших писем госпожи де Севиньи, с комментариями, на вечере в пользу трех бедных сироток скончавшегося нынешней зимой артиста Лакура, смерть которого мы все оплакиваем.
— Талантливый был актер? — спросил Константен Марк.
— Какое там! — сказала Нантейль.
— В таком случае почему же плакать о нем?
— О мэтр, не прикидывайтесь бессердечным, — вздохнула г-жа Дульс.
— Я никем не прикидываюсь. Просто меня удивляет: почему мы придаем такое значение жизни людей, которые нам нисколько не интересны. Впечатление такое, словно жизнь сама по себе нечто ценное. А природа, наоборот, учит нас, что нет ничего низменнее и презреннее жизни. Раньше люди не были так испорчены сентиментальностью. Каждый считал бесконечно ценной свою личную жизнь, но не чувствовал никакого уважения к жизни ближнего. Тогда люди были ближе к природе: мы созданы, чтобы пожирать друг друга. Но род людской слаб, нервозен, лицемерен, и нам нравится тайное каннибальство. Пожирая друг друга, мы разглагольствуем о том, что жизнь священна, и не смеем признаться, что жизнь — это убийство.
— Жизнь — это убийство, — безотчетно повторил Шевалье, погруженный в свои думы.
Потом он стал развивать туманные идеи.
— Убийство и резня, возможно, что это и так! Но только резня забавная и потешное убийство. Жизнь — смехотворная катастрофа, внушающий ужас комизм, карнавальная маска на окровавленных щеках. Вот что такое жизнь для актера; для актера на сцене и для актера в действии!
Встревоженная Нантейль старалась уловить смысл в его бессвязных словах.
А он возбужденно продолжал:
— Жизнь — это еще и другое: это цветок и нож, сегодня — это слепая ярость, а завтра поэзия, это ненависть и любовь, сладостная, восхитительная ненависть, жестокая любовь.
— Господин Шевалье, — самым спокойным тоном спросил его Константен Марк, — вам не кажется, что убивать вполне естественно и что только страх быть убитым удерживает нас от убийства?
Шевалье ответил задумчиво глухим голосом:
— Нет, конечно! Меня страх быть убитым не удержал бы от убийства. Я не боюсь смерти. Но я уважаю чужую жизнь. Я человечен, тут ничего не поделаешь. С некоторых пор я много думал над вопросом, который вы мне сейчас задали. Я размышлял над ним и дни и ночи, и теперь я знаю, что не могу убить.
Тут Нантейль, сразу повеселевшая, окинула его презрительным взглядом. Она его больше не боялась и не могла ему простить тот страх, что он нагнал на нее.
Она встала.
— Прощайте, у меня голова болит… До завтра, господин Марк.
И она выпорхнула из ложи.
Шевалье вышел за ней следом в коридор, спустился по артистической лестнице и догнал ее у швейцарской.
— Фелиси, давай пообедаем сегодня вместе где-нибудь в кабачке. Для меня это будет такою радостью! Хочешь?
— Вот еще что выдумал? Нет, конечно!
— Почему ты не хочешь?
— Оставь меня в покое, ты мне надоел.
Она хотела уйти. Он удержал ее.
— Я так тебя люблю! Не мучай меня.
Она подошла к нему вплотную и, презрительно вздернув верхнюю губу, прошипела сквозь зубы:
— Кончено, кончено, кончено! Слышишь. Ты мне поперек горла встал.
Тогда он сказал очень мягко, очень серьезно:
— Мы разговариваем сейчас в последний раз. Слушай, Фелиси, я должен тебя предупредить, пока не произошло катастрофы. Я знаю, насильно мил не будешь. Но я не хочу, чтобы ты любила другого. В последний раз советую тебе не встречаться больше с господином де Линьи. Я не позволю, чтобы ты принадлежала ему.
— Ты не позволишь, ты? Жаль мне тебя!
Он ответил еще мягче:
— Сказал и сделаю. Того, что хочешь, всегда, добьешься; только надо уметь хотеть.
V
Придя домой, Фелиси разрыдалась. Перед глазами у нее стоял Шевалье, словно моливший о милостыни. Такой жалобный голос и такое страдальческое выражение лица она встречала у измученных нищих, когда ехала в Антибы к богатой тетке, куда ее увезла на зиму мать, опасавшаяся за ее легкие. Фелиси презирала в Шевалье именно эту его мягкость и спокойствие. Но ее мучило воспоминание о его лице и голосе. Она не могла есть. У нее сжималось горло. Ей не хватало воздуха. Вечером смертельная тоска стеснила ей грудь, и она испугалась, что умрет. Она уже два дня не видалась с Робером и подумала, что поэтому так изнервничалась. Было девять часов. Она решила, что застанет его еще дома, и надела шляпку.
— Мама, мне сегодня вечером опять надо в театр. Я ухожу.
Из уважения к матери она прибегала к таким туманным объяснениям.
— Ступай, девочка, только возвращайся не слишком поздно.
Линьи жил с родителями в прелестном особняке на улице Берне, где у него была отдельная квартирка в мансарде с круглыми окнами, которую он называл своим «Версалем». Фелиси попросила швейцара сказать Роберу, что его дожидаются на улице в экипаже. Линьи не любил, чтобы в родительском доме его посещали женщины. Его отец, дипломат, сделавший карьеру, был очень занят внешними делами Франции и жил в полном неведении того, что творится у него дома. Но г-жа де Линьи строго следила за тем, чтобы у них в семье соблюдались приличия. И сын старался удовлетворять ее требования, которые касались только внешней формы и не затрагивали сущности. Она нисколько не мешала ему любить, кого он хочет, и только в минуты особой откровенности намекала, что молодому человеку полезно более близкое знакомство с дамами общества. Поэтому Робер отклонял визиты Фелиси на улицу Берне. Он снял на бульваре Вилье небольшой домик, где они могли спокойно встречаться. Но на этот раз, после двух дней, проведенных вдали от нее, он очень обрадовался ее нежданному визиту и сейчас же вышел на улицу.
В экипаже они сидели, тесно прижавшись друг к другу, лошаденка не спеша трусила по улицам и бульварам, сквозь сумрак и снег, и мгла окутывала их любовь.
— До завтра, — сказал он, когда они подъехали к ее дому.
— Да, до завтра, на бульваре Вилье. Приходи пораньше.
Он подал ей руку, чтоб помочь выйти из экипажа. Вдруг она откинулась назад.
— Вон там, вон там! Под деревьями… Он нас видел… Он нас поджидал.
— Кто?
— Мужчина… незнакомый мужчина.
Она узнала Шевалье.
Она вышла из экипажа и, прячась под шубу Робера, дождалась, пока откроют дверь. Но и потом она не отпустила его.
— Робер, проводи меня наверх. Я боюсь.
Немного досадуя, поднялся он за нею по лестнице. Шевалье ждал Фелиси до часу ночи, коротая время с г-жой Нантейль в тесной столовой, которую украшали доспехи Жанны д'Арк. Потом он спустился вниз и сторожил ее на улице; увидев остановившийся у крыльца экипаж, он спрятался за дерево. Шевалье был уверен, что она вернется с Линьи; но, когда он увидел их вместе, ему показалось, будто разверзлась земля, и, чтоб не упасть, он схватился за ствол. Он дождался Линьи; увидел, как тот вышел из дому и, запахнувшись в шубу, направился к экипажу. Шевалье шагнул к нему, остановился, а затем быстро пошел по бульвару.
Он шел, подгоняемый дождем и ветром. Ему стало жарко, он снял шляпу и с удовольствием почувствовал на лбу холодные капли. В его сознании смутно отражались мелькающие мимо дома, деревья, стены, огни; он шел, погруженный в думы.