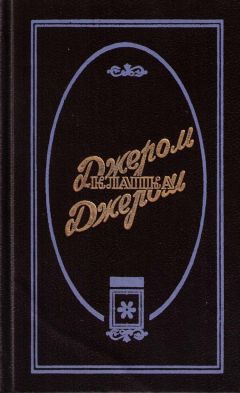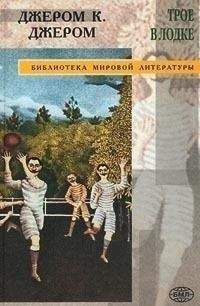Джером Джером - Пол Келвер
— По-моему, когда вы проснетесь, то окажетесь очень славным.
Но пока я оставался все тем же Полом.
— Скорее всего, я никогда не проснусь, — сказал я — Мне не хочется просыпаться.
— Но нельзя же всю жизнь видеть только сны, — засмеялась она. — Вот проснетесь и влюбитесь в какую-нибудь живую девушку. — Она подошла ко мне, взяла за лацканы сюртука и хорошенько потрясла. — Надеюсь, она не будет вас обижать. Я за вас боюсь.
— Только не надо думать, что я беспомощный идиот! — Я все еще сердился на нее, непонятно за что.
Она опять посмотрела на меня.
— А я и не думаю, вы это прекрасно понимаете… Но о хороших людях надо заботиться. Вот Том не может о себе позаботиться, так что заботиться о нем приходится мне.
Я засмеялся.
— Да-да, это действительно так. Вы же слышали, как я ворчу на него. Я люблю заботиться. До свидания.
Она протянула мне руку. Рука у нее стала белой, приобрела округлые формы, но назвать ее женской ручкой было нельзя. Она была сильной и твердой, что я и почувствовал при пожатии.
Глава VIII
Когда я покидал Лондон, мне слышалась барабанная дробь почетного караула, мне виделись флаги, вывешенные в честь моего отъезда. Вернулся я через год с небольшим; был промозглый декабрьский вечер; я прятал лицо в воротник пальто, боясь быть узнанным. Я потерпел поражение, но это еще полбеды — одно сражение исход кампании не решает. Главное, я был опозорен. Я возвращался в Лондон как в потаенное убежище, где можно затеряться в толпе, где можно влачить жалкое существование, отсчитывая тягостные дни в ожидании момента, когда ты все же найдешь в себе мужество свести счеты с никчемной жизнью. Я вынашивал честолюбивые планы, я жаждал славы, богатства — и вот я опять прозябаю в нищете и безвестности; месяц проходит за месяцем, а на душе все так же горько. Но я должен преследовать высокую цель — иначе я оскорблю память своих родителей — отца, человека большой души, вся жизнь которого была служением делу чести; матушки, чья вера была проста и понятна, — в простоте своей она обучила меня лишь одной молитве: «Господи, помоги мне быть честным!». Когда-то я мечтал стать великим, но мой идеал был человеком исключительной порядочности. Я хотел, чтобы мною не только восторгались, но и уважали, Я отводил себе роль рыцаря без страха (что встречается сплошь и рядом) и упрека (явление довольно редкое), я видел себя не Ланселотом, а Галахадом. А что же получилось? Боец из меня вышел никудышный — слабый, безвольный, не способный выдержать даже слабого натиска зла, жалкий трус, презренный раб, готовый плясать под каждое хлопанье кнута дьявола. Кормят тебя из свиного корыта — так тебе я надо, большего ты не заслуживаешь.
Урбан Вейн оказался самым обыкновенным мошенником. Пьесу он украл из стола известного драматурга, с которым познакомился на кухне Делеглиза. Драматург заболел, и Вейн частенько его навещал. Когда больному стало полегче, он уехал долечиваться в Италию. Умри он — а никто и не сомневался, что дни его сочтены, кража осталась бы незамеченной. Но жизнь решила, отпустить ему еще несколько лет, и он решил вернуться на родину. Об этом мы узнали, когда были на гастролях в одном маленьком городке на севере Англии. Вот тогда-то Вейн и поведал мне всю правду — спокойно, бесстрастно, покуривая сигарету, потягивая винцо (он пригласил меня распить бутылочку), сдабривая свой рассказ плоскими шуточками. Если бы я узнал об этом раньше, я бы действовал смело и решительно. Но полугодовое общение, с Вейном если и не убило корень моего мужества (Господь меня хранил), то иссушил его листья.
Глупым Вейна не назовешь. Почему он с самого начала не смог понять, что по кривой дорожке далеко не уедешь, остается для меня загадкой. Впрочем, таких людей немало. Под покровом ночи разбойник с большой дороги грабит одиноких путников; скопив пару сотен, он открывает на этой же дороге постоялый двор, и теперь при свете ясного Дня чистит карманы странствующих и путешествующих на вполне законном основании. Жить честно они просто не могут. В каждом деле есть свой Урбан Вейн. Поначалу на них смотрят как на отпетых негодяев, но проходит несколько лет, и вы с удивлением замечаете, что этот мерзавец стал почетным членом вашего цеха. Плевелы вырастают разными, все зависит от того, как обработана почва. А уж как ее обработать — это от нас зависит.
Поначалу я бушевал. Вейн сидел, очаровательно улыбаясь, и внимательно слушал.
— Ваши речи, дорогой мой Келвер, — ответил он, когда я истощил свой словарный запас, — могли бы уязвить меня, почитай я вас за авторитет в столь щекотливом вопросе, как нравственные нормы. Но вы — как все; проповедуете одно, а делаете другое. Я это давно заметил, а посему, как это ни прискорбно, проповеди перестали меня трогать. Вы рискнули утверждать, что с моей стороны якобы недостойно присваивать чужое произведение. Но ведь подобное происходит каждый Божий день. Вы и сами были не прочь принять на себя честь, которой не заслужили. Вот уже полгода как мы даем эту пьесу, «драму в пяти действиях». А кто автор? Да Гораций Монкриф! А ведь вашего-то в ней всего строк двести — великолепных строк, ничего не скажешь! — однако в пьесе-то пять действий!
Рассмотреть дело в этом ракурсе мне не приходило в голову.
— Но ведь вы сами просили меня поставить свое имя, — заикнулся было я. — Вы сказали, что не хотите, чтобы ваше имя появлялось в печати по соображениям личного порядка. Вы на этом настаивали.
Он помахал рукой, разгоняя табачный дым.
— Джентльмен, которого вы из себя строите, никогда не стал бы подписывать своим именем произведение, его перу не принадлежащее. Вас же сомнения не терзали, наоборот, вы чуть не запрыгали от радости: уж больно легко дался бы вам ваш дебют. Возможность, что и говорить, редкая, и вы это прекрасно поняли.
— Но вы выдали ее за перевод с французского, — возразил я. — Ваш перевод — моя обработка. Не берусь судить, хорошо это или плохо, но так принято: тот, кто обрабатывает пьесу, считается автором. Все так делают.
— Мне это известно, — последовал ответ. — И это меня всегда изумляло. Наш больной друг — надеюсь, нам еще представится возможность поздравить его с возвращением к жизни — частенько выкидывал подобные штучки и имел с этого приличный доходец, и, если судить по совести, наш с вами случай ничем не отличается от подобных казусов. Настал его черед платить по счетам: теперь я обработал его пьесу. Не все же ему обрабатывать?
— Видите ли, — продолжал он, подлив себе вина, — наш закон об авторских правах крайне несовершенен. Заимствование из иностранных авторов приветствуется и поощряется, а вот против заимствования из современных британских авторов имеются определенные предубеждения.
— Надеюсь, что действенность этого, пусть и несовершейного закона вы вскоре ощутите на своей шкуре, — заметил л.
Он засмеялся, но на этот раз как-то жестоко.
— Вы хотите сказать, дорогой мой Келвер, что ощутите ее вы, на своей шкуре, — Не стройте из себя невинного ягненка, — продолжал он. — Не такой уж вы дурак, как прикидываетесь. Первый экземпляр пьесы, посланный в цензуру, написан вашей рукой. С нашим общим другом вы знакомы не хуже моего и частенько к нему захаживали. Да и гастроли организовали вы — у вас получилось превосходно, я был приятно удивлен.
Гнев пришел позже. На какой-то момент тьма застила мне белый свет, и ничего, кроме страха, я не чувствовал.
— Но вы же говорили, — вскричал я, — что это пустая формальность! Что вы хотите сохранить свое имя в тайне! Что ваши родственники…
Он удивленно смотрел на меня, и недоумение его не было притворным. Я и сам начинал понимать весь комизм ситуации. Просто невозможно поверить, что есть на свете дураки вроде меня.
— Мне вас жаль, — сказал он. — Мне вас искренне жаль. Не думал, что вы не от мира сего. Я решил, что вы просто ничего не желаете знать.
К стыду своему, должен признаться, что самым возвышенным чувством, которое я в тот момент испытывал, был животный страх.
— Вы ведь не станете все сваливать на меня? — взмолился я.
Он встал и положил мне руку на плечо. Мне бы ее сбросить, но я расценил этот жест как проявление великодушия. Ждать помощи мне было больше не от кого.
— Не отчаивайтесь, — сказал он. — Наш друг, скорее всего, подумает, что рукопись просто куда-то затерялась. И вообще, я не уверен, помнит ли он, что написал эту пьесу. Вероятнее всего, он решит, что она существует в его воображении. За наших актеров я спокоен — никто ничего даже не подозревает. Нам нужно немедленно засесть за работу. Пьеску я порядком перелицевал еще до вас — имена всех действующих лиц изменены. Третий акт нужно сохранить — это единственное стоящее место. Сюжет банален — мы имеем полное право на свой кусок от общего пирога. Через пару недель мы изменим вещь до неузнаваемости, и если даже наш друг ее увидит, то решит, что мы уловили идею, витающую в воздухе, и упредили его.