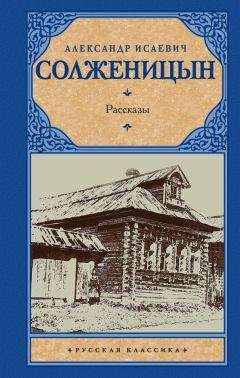Александр Солженицын - В круге первом (т.2)
— Это не может быть!! — протестовал он. — В субботу вечером мне сам министр Абакумов обещал, что по ночам кипяток будет! Это по логике вещей! Ведь мы работаем до двенадцати ночи!
Раскат арестантского хохота был ему ответом.
— А ты не работай до двенадцати, му…к, — пробасил Двоетёсов.
— Мы не можем держать ночного повара, — рассудительно объяснил Шустерман.
И затем, взяв из рук младшины список, Шустерман гнетущим голосом, от которого сразу всё стихло, объявил:
— Внимание! Сейчас на работу не выходят и собираются на этап… Из вашей комнаты: Хоробров! Михайлов! Нержин! Сёмушкин!.. Готовьте казённые вещи к сдаче!
И проверяющие вышли.
Но четыре выкрикнутых фамилии как вихрем закружили всё в комнате.
Люди покинули чай, оставили недоеденные бутерброды и бросились друг ко другу и к отъезжающим. Четыре человека из двадцати пяти — это была необычная, обильная жатва жертв. Заговорили все разом, оживлённые голоса смешивались с упавшими и презрительно-бодрыми. Иные встали во весь рост на верхних койках, размахивали руками, другие взялись за голову, третьи что-то горячо доказывали, бия себя в грудь, четвёртые уже вытряхивали подушки из наволочек, а в общем вся комната представляла собой такой разноречивый разворох горя, покорности, озлобления, решимости, жалоб и расчётов, и всё это сгромождено в тесноте и в несколько этажей, что Рубин встал с кровати, как был, в телогрейке, но в кальсонах, и зычно крикнул:
— Исторический день шарашки! Утро стрелецкой казни!
И развёл руками перед общей картиной. Оживлённый вид его вовсе не значил, что он рад этапу. Он равно бы смеялся и над собственным отъездом. Перед красным словцом у него не устаивала ни одна святыня.
Этап — это такая же роковая грань в жизни арестанта, как в жизни солдата — ранение. И как ранение может быть лёгким или тяжёлым, излечимым или смертельным, так и этап может быть близким или далёким, развлечением или смертью.
Когда читаешь описание мнимых ужасов каторжной жизни у Достоевского, — поражаешься: как покойно им было отбывать срок! ведь за десять лет у них не бывало ни одного этапа!
Зэк живёт на одном и том же постоянном месте, привыкает к своим товарищам, к своей работе, к своему начальству. Как бы ни был он чужд стяжанию, неизбежно он обрастает: у него появляется или присланный с воли фибровый или сработанный в лагере фанерный чемодан. У него появляются: рамочка, куда он вставляет фотографию жены или дочери; тряпичные тапочки, в которых он ходит после работы по бараку, а на день прячет от обыска; возможно даже, что он закосил лишние хлопчатобумажные брючки или не сдал старые ботинки — и всё это перепрятывает от инвентаризации к инвентаризации. У него есть даже своя иголка, его пуговицы надёжно пришиты, и ещё у него хранится пара запасных. В кисете у него водится табачок.
А если он фраер — он держит ещё зубной порошок и иногда чистит зубы. У него накопляется пачка писем от родных, заводится собственная книга, обмениваясь которой, он прочитывает все книги лагеря.
Но как гром ударяет над его маленькой жизнью этап — всегда без предупреждения, всегда подстроенный так, чтобы застать зэка врасплох и в последнюю возможную минуту. И вот торопливо рвутся в очко уборной письма родных. И вот конвой — если этап предстоит телячьими красными вагонами — отрезает у зэка все пуговицы, а табак и зубной порошок высыпает на ветер, ибо ими в пути может быть ослеплён конвоир. И вот конвой — если этап будет пассажирскими вагон-заками — ожесточённо топчет чемоданы, не влезающие в узкую вагонную камеру, а заодно ломает и рамочку от фотографии. В обоих случаях отбирают книги, которых нельзя иметь в дороге, иголку, которой можно перепилить решётку и заколоть конвоира, отметают как хлам тряпичные тапочки и отбирают в пользу лагеря лишнюю пару брюк.
И очищенный от греха собственности, от наклонности к оседлой жизни, от тяготения к мещанскому уюту (справедливо заклеймённому ещё Чеховым), от друзей и от прошлого, зэк берёт руки за спину и в колонне по четыре («шаг вправо, шаг влево — конвой открывает огонь без предупреждения!»), окружённый псами и конвойными, идёт к вагону.
Вы все видели его в этот момент на наших железнодорожных станциях, — но спешили трусливо потупиться, верноподданно отвернуться, чтобы конвойный лейтенант не заподозрил вас в чём плохом и не задержал бы.
Зэк вступает в вагон — и вагон прицепляют рядом с почтовым. Глухо обрешеченный с обеих сторон, не просматриваемый с платформ, он идёт по мирному расписанию и везёт в своей замкнутой душной тесноте сотни воспоминаний, надежд и опасений.
Куда везут? Этого не объявляют. Что ждёт зэка на новом месте? Медные рудники? Лесоповал? Или заветная сельхоз-подкомандировка, где порой удаётся испечь картошечку и можно есть от пуза скотий турнепс? Скрутит ли зэка цынга и дистрофия от первого же месяца общих работ? Или ему посчастливится дать лапу, встретить знакомого — и он зацепится дневальным, санитаром или даже помощником каптёра? И разрешат ли на новом мете переписку? Или на много лет пресекутся от него письма, и родные причтут его к мертвецам?..
Может быть, он и не доедет до места назначения? В телячьем вагоне умрёт от дизентерии? оттого, что шесть суток эшелон будут гнать без хлеба? Или конвой забьёт его молотками за чей-то побег? Или в конце пути из нетопленной теплушки будут выбрасывать, как дрова, окоченевшие трупы зэков?
Красные эшелоны идут до СовГавани месяц…
Помяни, Господи, тех, кто не доехал!
И хотя с шарашки отпускали мягко, оставляли зэкам до первой тюрьмы даже бритвы — все эти вопросы с их вечной силой щемили сердца тех двадцати арестантов, которые при утреннем обходе комнат во вторник были выкликнуты на этап.
Беззаботная полу-вольная жизнь шарашечных зэков для них кончилась.
95
Как ни был Нержин охвачен заботами этапа, — в нём вспыхнуло и обострилось настроение оттянуть на прощанье майора Шикина. И по звонку на работу, несмотря на приказ этим двадцати оставаться в общежитии и ждать надзирателя, он, как и все остальные девятнадцать, ринулся сквозь проходные двери. Взлетев на третий этаж, он постучал к Шикину. Ему велели войти.
Шикин сидел за столом угрюмый, тёмный. Что-то дрогнуло в нём со вчерашнего дня. Одной ногой он провёл над пропастью и знал теперь ощущение, когда не на что стать.
Но прямого и скорого выхода не имела его ненависть к этому мальчишке! Самое большее (и самое безопасное для себя), что мог сделать Шикин — это помотать Доронина по карцерам, сердечно нагадить ему в характеристику и отправить назад на Воркуту, где с такой характеристикой он попадёт в режимную бригаду — и вскоре подохнет. И результат будет тот же самый, что судить бы его и расстрелять.
Сейчас, с утра, он не вызвал Доронина на допрос потому, что ожидал разных протестов и помех со стороны отправляемых.
Он не ошибся. Вошёл Нержин.
Майор Шикин всегда не терпел этого худощавого неприязненного зэка с его неуклонно-твёрдой манерой держаться, с его дотошным знанием законов. Шикин давно уже уговаривал Яконова отправить Нержина на этап и сейчас со злорадным удовольствием посмотрел на враждебное выражение входящего.
У Нержина был природный дар не задумываясь сложить жалобу в немногочисленные разящие слова и произнести их единым духом в ту короткую секунду, когда открывается кормушка в двери камеры, или уместить на клочке промокательно-туалетной бумаги, выдаваемой в тюрьмах для письменных заявлений. За пять лет сидения он выработал в себе и особую решительную манеру разговаривать с начальством — то, что на языке зэ-ков называется культурно оттягивать. Слова он употреблял только корректные, но высокомерно-иронический тон, к которому, однако, нельзя было придраться, был тоном разговора старшего с младшим.
— Гражданин майор! — заговорил он с порога. — Я пришёл получить незаконно отнятую у меня книгу. Я имею основания полагать, что шесть недель — достаточный при транспортных условиях города Москвы срок, чтобы убедиться, что она допущена цензурой.
— Книгу? — поразился Шикин (потому что так быстро не нашёлся ничего умней). — Какую книгу?
— В равной мере, — сыпал Нержин, — я полагаю, что вы знаете, о какой книге речь. Об избранных стихах Сергея Есенина.
— Е-се-ни-на?! — будто только сейчас вспоминая и потрясённый этим крамольным именем, откинулся майор Шикин к спинке кресла. Седеющий ёжик его головы выражал негодование и отвращение. — Да как у вас язык поворачивается
— спрашивать Е-се-ни-на?
— А почему бы и нет? Он издан у нас, в Советском Союзе.
— Этого мало!
— Кроме того, он издан в тысяча девятьсот сороковом году, то есть, не попадает в запретный период тысяча девятьсот семнадцатый тире тысяча девятьсот тридцать восьмой.
Шикин нахмурился.
— Откуда вы взяли такой период? Нержин отвечал так уплотнённо, будто заранее выучил все ответы наизусть: