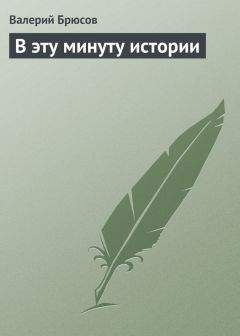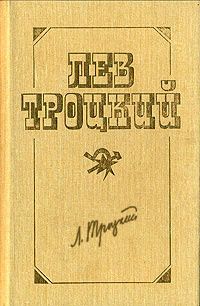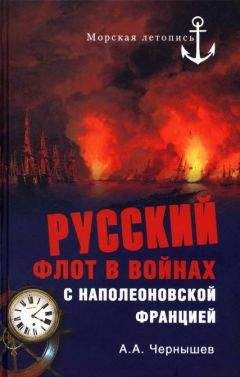Фридрих Шлегель - Немецкая романтическая повесть. Том I
— Эти лишенные вдохновения актеры, — продолжал Марло, — скоро сами вздумают писать все, что нужно для их сцены. Для нас это, может быть, и безразлично, так как наша жизнь и слава зависят не от этого минутного и изменчивого успеха. Несколько вещиц из нашей истории уже имели блестящий успех, потому что в ход были пущены старые воспоминания, расположение к известным людям и так называемая любовь к отечеству, и всеми этими приправами подкупили тупую и невежественную толпу. Но какое дело истинному порту до его так называемого отечества? Клочок земли, на котором он случайно родился! Ему открыты, его власти покорны все царство фантазии, юг и север и мир духов сверх того. Тот, кто, желая вдохновиться счастием и несчастием, великодушием, злобой и ужасными происшествиями, еще может интересоваться тем ничтожным клочком земли, на котором он увидел свет, и в великие картины не может не вплетать произвольно воспоминаний детства, уж наверное ничего не имеет общего с поэзией. Поэтому я наделил моего Тамерлана[42] большей красотой и величием, чем те могли когда-либо придать своим Тальботу, Глостеру или слабому Генриху Шестому[43], или даже старым, забытым сказочным фигурам, которых болезненная расслабленность поэтов опять старается нам преподнести. Поэтому моя последняя трагедия, — сказка о немецком волшебнике Фаусте, — мне так дорога, что здесь ужас, страх и все потрясающее, чередуясь с карикатурными, комичными происшествиями, разыгрываются совершенно независимо, вращаются в своей собственной стихии и не нуждаются в обычаях нашего времени или города. В своем «Эдуарде» я также обошелся без участия так называемого отечества или политического гнета, народа и тому подобного. Борьбы партий и невыразимого несчастия слабого короля достаточно, и последний возбуждает в каждом зрителе сочувствие и ужас именно потому, что он только человек.
Незнакомец поднялся.
— Вы опять сердитесь? — сурово спросил Марло.
— Этого никогда еще со мной не бывало, — сказал тот самым приветливым тоном, — я чувствую себя, напротив, весьма польщенным, что мог принять участие в разговоре с столь прекрасными людьми. Но мне пора итти, потому что я не так независим, как вы только что говорили о себе.
— Если вам только позволяет ваш адвокат или прочие занятия, — сказал Марло, — то скажите теперь же то, что имеете возразить.
— Ваше желание, — ответил тот, — для меня имеет силу приказания, а как драматический поэт вы, конечно, умеете лучше использовать мнения, совершенно не схожие с вашими, чем обыкновенные люди. Сперва вы безусловно хотели поставить высшей задачей поэзии чувственный восторг, это главное побуждение нашей природы, общее для всех людей и даже животных. В этом предубеждении вы думали найти высшую, свободу; чувство патриотизма вы, напротив, отвергаете как связывающее и как поэт не хотите признавать ни отечества, ни времени. И все же вы не можете отречься от вскормившей вас стихии, от взрастившей вас среды. Если человек, не имевший детства, не может почувствовать своей возмужалости, то на что же может опираться мир, создаваемый поэтом, если он сам отвергнет необходимейшую для него точку опоры? Любовь к отечеству — это развитое образованием и воспитанием природное чувство, инстинкт, претворившийся в благороднейшее сознание. Она возможна только там, где существует истинное государство, правит благородный государь и может развиваться та свобода, которая человеку необходима, в этих подлинных государствах она овладевает благороднейшими умами и сообщает им высшее вдохновение, бессмертную любовь к стране, к преемственному государственному устройству, к древним обычаям, к веселым празднествам и причудливым преданиям. А если при этом она соединяется с искренним почитанием правителя, как мы, англичане, имеем возможность почитать нашу высочайшую королеву, то на почве этих разнообразных сил и чувств вырастает такое дивное древо жизни и великолепия, что я не могу представить себе никакого интереса, никакой изысканной поэзии, никакой любви и страсти, которые могли бы соперничать с этим высшим вдохновением. И поэт здесь встречает поэзию в великолепнейшем наряде — если он только захочет узнать ее — идущей навстречу его душе. У кого не бьется сильнее сердце при упоминании о Кресси и Азинкуре?[44] Что за образы — Эдуард Третий[45], Генрих Пятый, герои гражданских войн роз, честный Глостер, возвышенный Варвик, Страшный Ричард[46] или гигантская фигура Ганта рядом с легкомысленным и несчастным Ричардом Бордосским![47] Черный принц, которого даже враг упоминал с уважением, Львиное Сердце или его еще более великий отец, счастливейший и несчастнейший из могущественных монархов![48] А какое чудо мы пережили всего несколько лет назад, когда в лице огромного флота чужеземное иго уже подплывало к нашему порогу? Какие чувства одушевляли и волновали тогда страну в долинах, лесах и горах! Какие желания и молитвы! Стар и млад радостно и с бьющимися сердцами стремились в ряды храбрых, чтобы пасть или победить. О, тогда, тогда мы действительно чувствовали, не нуждаясь в словах, какое высокое благо, какое сокровище выше всякой земной оценки — наше отечество! А когда затем наша высочайшая королева, вооруженная, на коне явилась перед ликующей толпой защитников отечества, в блеске своего величия, с любовью и милостью, и уста ее заговорили об общей беде, о страшном враге, которого только небо и единодушие воодушевленных сынов отечества могли бы победить, — кто, пережив эти высшие минуты своей жизни, сможет их когда-нибудь забыть? И все-таки мы, вероятно, погибли бы, как ни высоко подняло нас бессмертное чувство, если бы счастье и спасение не упали прямо с неба. Елизавета, Говард, Дрек, Ралей[49] и имена всех тех, которые правили и сражались в те роковые дни, должны упоминаться с благодарностью до тех пор, пока английская речь будет раздаваться на этом счастливом острове. Извините мое волнение, но, мой уважаемый, разве это не целый мир для поэта? Дорогой Марло, мне приходится почти опасаться, что в этом стремлении обходиться только самим собою, без родины, без времени, человек, как вы только что перед этим выразились, превратится в ничто и исчезнет. Но будьте снисходительны к профану, который, как ни хотел этого избежать, все-таки навязал вам длинную речь и свои возражения. — Поблагодарив еще раз всех за их благосклонность, незнакомец оставил зал.
Эсквайр серьезно, даже с умилением, посмотрел ему вслед; Грин кивнул одобрительно, но Марло сказал, не смущаясь:
— Из этой речи можно только заключить, что этот добрый малый не получил научного образования и не был в университете. Ибо мы все обязаны занятиям наукой и знанию классических авторов тем, что с ранней молодости осваиваемся с более широким миром, чем нам может дать современность. Хорошо, если толпа думает так, как он, но развитой или свободный человек заимствует подлинное дыхание жизни у древних республик, и высокий Олимп все еще остается обиталищем наших богов.
— Ты во всем силен и могуч, — сказал Грин, — но, должен сознаться в своей слабости, я был тронут, и это бывает со мной часто в таких случаях. Я думал также об окончании своего «Роджера Бекона», которого я заставляю закончить вещим похвальным словом нашей королеве; теперь, после речи даровитого писца, я мог бы написать эту вещь совершенно по-иному.
— Так как мы теперь одни, — сказал эсквайр, — то позвольте мне говорить с вами как с другом и простите меня заранее, если я, может быть, несколько преждевременно и чересчур смело пользуюсь этим званием. Я предпринял свое путешествие отчасти для того, чтобы познакомиться с вами, уважаемый господин Марло; это мне удалось, но я был бы еще счастливее, если бы мог быть вам чем-нибудь полезным. Я человек состоятельный, а так как слыхал, что вы иногда бываете в затруднении из-за недостатка в презренном металле, то скажите мне, какой суммой я могу вам услужить, и если мой уважаемый друг не сердится за мою откровенность, то к его услугам двести фунтов.
Марло слушал с видимым смущением, все лицо его покрылось пылающей краской, горящие глаза были полузакрыты и опущены, несколько полные губы, каралось, выражали сопротивление. Грин сперва смотрел большими глазами на незнакомца, затем кашлянул, неуверенный в том, что скажет его друг, и стал пить медленными глотками. Марло ответил лишь после паузы.
— Вы благородный, обходительный человек, и хорош бы я был, если бы негодовал на такое великодушие. Но доверие за доверие: даю вам слово, что я не нуждаюсь в вашей помощи, но вы будете первым, у кого я стану искать ее, как только буду в ней нуждаться. Но если вы, действительно, хотите быть моим другом, как вы это предлагаете, то позвольте мне к этому отказу прибавить просьбу, которою, мне кажется, я сделаю вам больше чести, чем если бы сам стал вашим должником. Видите ли, мой дорогой Грин находится уже давно в самой гнетущей нужде; как ни легкомыслен он, но чувствует себя все же скованным ею, и, что больше всего достойно сожаления, этим парализуется его прекрасный талант, который (хотя я перед этим и говорил немного хвастливо) по меньшей мере не уступает моему, если не превосходит его, так как, во всяком случае, за ним остается неоспоримое преимущество большей разносторонности. Этого способного человека вы, действительно, можете осчастливить вашим великодушием, так как он тогда восторжествует над издевательствами низменных умов, злорадно насмехающихся над его нуждой, но никогда не способных понять его возвышенных мыслей.
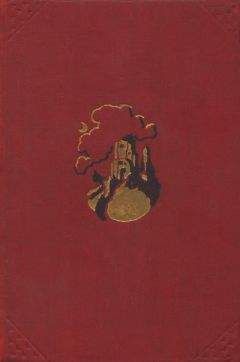
![Елена Кукина - Русская живопись первой половины XIX века. Романтизм, академизм и бидермайер [статья]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)