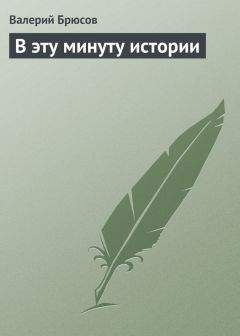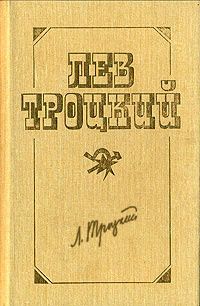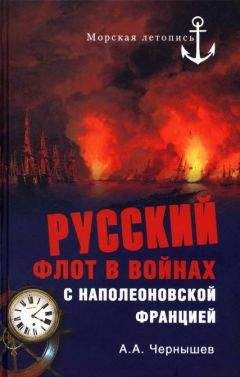Фридрих Шлегель - Немецкая романтическая повесть. Том I
— Простите неловкость моего молодого, еще неопытного слуги, почтеннейшие господа, и не сочтите за дерзость, если посторонний человек, не имеющий за собой никаких заслуг, но привлеченный славой столь превосходных умов, желает познакомиться с людьми, приносящими своему отечеству столько чести.
Грин молча поклонился, а Марло, хорошо понимавший, что послание дворянина относилось, в сущности, к нему одному, взял слово и красноречиво выразил великую радость, которую должен испытывать поэт, когда ему удается приобрести друзей даже вдалеке, среди уважаемых и выдающихся людей; мнение одного понимающего человека перевешивает неопределенное суждение бесчисленных представителей невежественной массы.
Эсквайр, человек воспитанный, счел нужным также обратиться с маленьким извинением и к незнакомцу; но как только он начал свою речь, тот любезно предупредил его, говоря:
— Не беспокойтесь, сэр. Мне только жаль бедного молодого человека, которого вы сконфузили; не отвлекайтесь от вашего разговора, он для вас слишком важен, чтобы терять время с незнакомцем.
Эти слова, произнесенные вежливо, но беспечно, побудили эсквайра пригласить также и незнакомца к столу, который слуги вновь уставили вином и фруктами. Равнодушный Грин любезно дал писцу, как его называли, место рядом с собой; но Марло, слегка обиженный, отодвинулся от него в сторону дворянина. От последнего не ускользнула эта невежливость, и он добродушно сказал:
— Кто не может проявить себя как поэт, того облагораживает хоть то, что он понимает и любит произведения благородных умов; поэтому я с некоторой надеждой добиваюсь вашего общества и прошу этого молодого человека присоединиться к нам, так как его слова и поведение обнаруживают, что он умеет ценить поэтов своей страны.
Вино и веселые разговоры вскоре перезнакомили между собою всех бывших дотоле чужими друг другу. Надменный Марло забыл, наконец, что дворянин настолько же унизил его приглашением незнакомца, насколько польстил своей предупредительной вежливостью.
— Как я счастлив, — сказал эсквайр, — что сижу наконец возле человека, давно уже умилявшего мое сердце и занимающего среди ныне живущих или, во всяком случае, среди известных мне поэтов безусловно первое место.
— Бывают часы, — ответил Марло, покраснев, — когда и моей опьяненной душе грезится нечто подобное; но пока что я еще не нашел ни досуга, ни настроения, чтобы выполнить что-нибудь из того, что предполагалось мной в моей восторженной молодости. Все, что известно миру обо мне, — только забавы и опыты.
— Вы слишком скромны, — возразил эсквайр; — где у нас хоть что-нибудь похожее на ваш перевод Овидия или Музея?[31] Вы совершенствуете наш язык, так что он делается гибким и способен тонко выражать оттенки силы, величия и глубины. Ваши песни нежны и благозвучны, ваши трагедии потрясают, и во всем, что вы создаете, господствует стремительность, буря страсти, увлекающие нас против воли в чуждые области, а это для меня и служит верным признаком истинного поэта.
— Я только тогда могу сочинять, — продолжал Марло, — когда меня что-нибудь волнует и непреодолимо влечет к стихам и фантазиям. Иногда мне даже кажется, в сладостном очаровании, будто чужой, высший разум управляет моим пером. Когда меня оставляет это возвышенное исступление, я даже сам удивляюсь тому, что написал. И я не верю, чтобы в трагедии можно было иным путем создать что-нибудь, ибо как может поэт выразить сверхчеловеческое, если сам он не выведен из душевного равновесия? В таком трепетном состоянии пророческого помешательства он воспринимает своими бессмертными очами вещи, остающиеся навсегда скрытыми от его земного взора. Поверьте мне, из всех достоинств, которыми я восхищаюсь в моем друге Грине, я больше всего завидую его способности писать и сочинять стихи по своему произволу, во всякое время и во всяком настроении, однако лично мне это мало понятно.
— Если в том, — ответил Грин робким голосом, — что ты сейчас сказал, есть хоть сколько-нибудь правды, то этот дар едва ли можно считать завидным, потому что как раз он и делает для меня навеки невозможным достижение истинного венца поэзии. Я, конечно, не менее других восхищаюсь полетом твоего гения, и может быть, и верно, что орел вдохновения расправляет крылья охотнее всего в благословенные часы, когда небо нашей души безоблачно и лазурно, чтобы в высших сферах упиваться лучами солнца; но нельзя отрицать, что порядок, настойчивость и твердость, которыми ты, мой благородный друг, пренебрегаешь в своих работах, имеют большое значение для нас. Этот порядок, если бы ты усвоил его, сделал бы для тебя и самое вдохновение более доступным, и тогда тебе, свободнейшему и сильнейшему из людей, не приходилось бы быть почти ежедневно рабом твоих капризов и настроений.
— Это совершенно верно, — ответил Марло, — в устах другого; но для меня это не подходит, я должен был бы быть совсем другим человеком, чтобы следовать такому хорошему совету.
— А я, напротив, — продолжал Грин, — нахожусь почти всегда в несколько умиленном, поэтическом настроении; моя внешняя и внутренняя жизнь, действительность и фантазия не так разобщены, как у тебя и у многих других людей; поэтому я работаю совсем легко и без каких-либо других перерывов, кроме тех, которые делаю произвольно. Оттого мне и удается лучше, чем тебе, применять в стихотворениях веселье и шутки; как бы богато ни одарила тебя природа, но, тем не менее, в шутке тебе отказано, и как только ты, наперекор Минерве, хочешь возбудить смех, это тебе не удается.
— Нет, — вмешался дворянин, — может быть, и невозможно выражать так красиво героическое, великое и страшное и в то же время обладать такой игривостью, чтобы остроты, шутки и веселье били из пенящегося кубка вдохновения. Я не хочу задевать уважаемого таланта присутствующих, но мне кажется, что эту веселость надо искать на более низкой ступени, поэтому она и не требует напряжения всей души, всех сил человека. Великан, вырывающий с корнем деревья, не может быть в то же время изящным танцором.
Молодой человек в черном камзоле тихо улыбался.
— Вы, кажется, не совсем моего мнения, — сказал эсквайр, наливая ему снова.
— Простите, — ответил тот, — мне только пришло в голову, не представляет ли собой человек нечто большее, чем просто великан; мы, по крайней мере, радуемся, когда в поэтическом произведении гиганта побеждает более благородная сила. Александр или Генрих Пятый английский после выигранного сражения могут пировать и пить, не теряя своего благородства; и может быть, существует также и поэзия, объединяющая решительно все.
— Когда слепой говорит о красках, — вмешался Марло и гневно взглянул на незнакомца, — то мы, действительно, узнаем новые вещи, однако далеко не относящиеся к делу.
Эсквайр, желавший избежать спора и поддержать хорошее настроение у своего любимца, заговорил о плавных стихах и пышных описаниях, которые создали Марло в то время величайшую славу, но за которые его порицали противники, добронравные читатели, так что церковный суд хотел даже запретить его перевод стихотворений Овидия.
— Спор о безнравственности поэзии, — продолжал дворянин, — никогда еще не велся так оживленно, как в наши дни, и если ее противники и правы в какой-то мере, то нельзя не согласиться, что благочестивый образ жизни, гражданская добродетель и беспорочность несовместимы с поэзией.
— Наши противники, — сказал Марло с большим оживлением, — это ведь те пуританские чистильщики и метельщики, которые хотели бы очистить страну не только от поэзии, но и от всех искусств, даже наук, и если бы их послушались, то и от различия сословий, от дворянства, короля и духовенства. Но, подобно тому как при великом расчленении человеческого общества невозможно изъять из целого кажущиеся несовершенства, бедность, угнетение, насилия и пороки, потому что тем самым не только уничтожилась бы добродетель, но и разрушилось бы все здание величественной мудрости, — так и в поэзии замечается подобное же явление. Мы все знаем и часто сетуем на то, что чувственный восторг так сильно действует на нас, и в то же время мы должны с сожалением признаться, что его невозможно уничтожить, так как вместе с ним погибло бы всякое проявление жизни. Когда в мощной груди пробуждается сознание жизни и возникает стремление выразить его в образах, сладких звуках и аккордах, то оно заключает это сокровенное стремление своими блестящими узами и возводит его к пределам постигаемого, к пышности, прелести и сладострастию, туда, где горит самое чистое и жгучее пламя жизни. В этом пламени дух поэзии дерзко возносится, проявляясь во всех красках и образах; и как любовь, тоска, печаль и духовное желание угасают и смягчаются в чувственном удовлетворении и земном насыщении, так небесное, чистое и дивное может найти цветущий венец и красочное выражение не иначе, как в возбуждении и чувственной роскоши. Как бы ни были различно настроены человеческие умы, тут все друг друга понимают, если они простодушны и естественны. Следовательно, кто меня за это порицает, бранит самое вдохновение, ту жизненную силу, которая просыпается в укромном мраке души, осматривается, ясным, все разгорающимся взором постигает чудо своего назначения и любовно уносит с собой это сладостное, волнующее весь мир влечение, чтобы выразить в образах и формах то, что иначе навеки осталось бы мертвым и невоплощенным. И не представляет ли страстное стремление к боли и страданиям то же явление? Во власти таинственной прихоти — смеси страха, отвращения и жалости, душа хватается за страшное и утоляет свой ужасный голод картинами крови и убийства; жестокость и кровожадность, дремлющие в груди человека, освобождаются от цепей, красная от крови, дикая природа торжествует в своем величии среди ужаса и содрогания. И это побуждение, возносящее как в действительности, так и в поэзии человека высоко над самим собой, глубочайшим образом сродни пламенному сладострастию и в действительности есть то же самое магическое желание создавать и разрушать, губить в апогее любви и упиваться жаждой крови до тончайших фибр души. Поэтому тиранны так необходимы в трагедии, поэтому любовь должна присутствовать в каждом стихотворении, которое предназначено пробуждать нашу душу от сна; оттого и любовь, когда нарушают ее вдохновение, когда препятствуют ее наслаждению, при буйном характере доводит до убийства, и оттого все тиранны были сладострастны и страшнее всего в своей жажде любви.
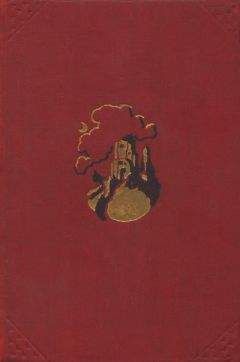
![Елена Кукина - Русская живопись первой половины XIX века. Романтизм, академизм и бидермайер [статья]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)