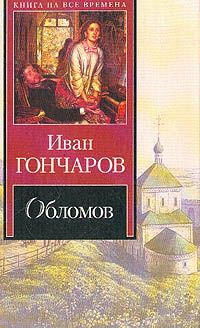Иван Гончаров - Обломов
Даже пробовал заговорить с бабушкой, да она не сможет никак докончить разговора: остановится на полуслове, упрет кулаком в стену, согнется и давай кашлять, точно трудную работу какую-нибудь исправляет, потом охнет — тем весь разговор и кончится.
Только братца одного не видит он совсем или видит, как мелькает большой пакет мимо окон, а самого его будто и не слыхать в доме. Даже когда Обломов нечаянно вошел в комнату, где они обедают, сжавшись в тесную кучу, братец наскоро вытер пальцами губы и скрылся в свою светлицу.
Однажды, лишь только Обломов беззаботно проснулся утром и принялся за кофе, вдруг Захар донес, что мосты наведены. У Обломова стукнуло сердце.
— А завтра воскресенье, — сказал он, — надо ехать к Ольге, целый день мужественно выносить значительные и любопытные взгляды посторонних, потом объявить ей, когда намерен говорить с теткой. А он еще все на той же точке невозможности двинуться вперед.
Ему живо представилось, как он объявлен женихом, как на другой, на третий день приедут разные дамы и мужчины, как он вдруг станет предметом любопытства, как дадут официальный обед, будут пить его здоровье. Потом… потом, по праву и обязанности жениха, он привезет невесте подарок…
— Подарок! — с ужасом сказал он себе и расхохотался горьким смехом.
Подарок! А у него двести рублей в кармане! Если деньги и пришлют, так к Рождеству, а может быть, и позже, когда продадут хлеб, а когда продадут, сколько его там и как велика сумма выручена будет — все это должно объяснить письмо, а письма нет. Как же быть-то? Прощай, двухнедельное спокойствие!
Между этими заботами рисовалось ему прекрасное лицо Ольги, ее пушистые, говорящие брови и эти умные серо-голубые глаза, и вся головка, и коса ее, которую она спускала как-то низко на затылок, так что она продолжала и дополняла благородство всей ее фигуры, начиная с головы до плеч и стана.
Но лишь только он затрепещет от любви, тотчас же, как камень, сваливается на него тяжелая мысль: как быть, что делать, как приступить к вопросу о свадьбе, где взять денег, чем потом жить?..
«Подожду еще; авось письмо придет завтра или послезавтра». И он принимался рассчитывать, когда должно прийти в деревню его письмо, сколько времени может промедлить сосед и какой срок понадобится для присылки ответа.
«В эти три, много четыре дня должно прийти; подожду ехать к Ольге», — решил он, тем более, что она едва ли знает, что мосты наведены…
— Катя, навели мосты? — проснувшись в то же утро, спросила Ольга у своей горничной.
И этот вопрос повторялся каждый день. Обломов не подозревал этого.
— Не знаю, барышня; нынче не видала ни кучера, ни дворника, а Никита не знает.
— Ты никогда не знаешь, что мне нужно! — с неудовольствием сказала Ольга, лежа в постели и рассматривая цепочку на шее.
— Я сейчас узнаю, барышня. Я не смела отойти, думала, что вы проснетесь, а то бы давно сбегала. — И Катя исчезла из комнаты.
А Ольга отодвинула ящик столика и достала последнюю записку Обломова. «Болен, бедный, — заботливо думала она, — он там один, скучает… Ах, боже мой, скоро ли…»
Она не окончила мысли, а раскрасневшаяся Катя влетела в комнату.
— Наведены, наведены сегодня в ночь! — радостно сказала она и приняла быстро вскочившую с постели барышню на руки, накинула на нее блузу и пододвинула крошечные туфли. Ольга проворно отворила ящик, вынула что-то оттуда и опустила в руку Кате, а Катя поцеловала у ней руку. Все это — прыжок с постели, опущенная монета в руку Кати и поцелуй барышниной руки — случилось в одну и ту же минуту. «Ах, завтра воскресенье: как это кстати! Он придет!» — подумала Ольга и живо оделась, наскоро напилась чаю и поехала с теткой в магазин.
— Поедемте, ma tante, завтра в Смольный, к обедне, — просила она.
Тетка прищурилась немного, подумала, потом сказала:
— Пожалуй; только какая даль, ma chere! Что это тебе вздумалось зимой!
А Ольге вздумалось только потому, что Обломов указал ей эту церковь с реки, и ей захотелось помолиться в ней… о нем, чтоб он был здоров, чтоб любил ее, чтоб был счастлив ею, чтоб… эта нерешительность, неизвестность скорее кончилась… Бедная Ольга!
Настало и воскресенье. Ольга как-то искусно умела весь обед устроить по вкусу Обломова.
Она надела белое платье, скрыла под кружевами подаренный им браслет, причесалась, как он любит; накануне велела настроить фортепьяно и утром попробовала спеть Casta diva. И голос так звучен, как не был с дачи. Потом стала ждать.
Барон застал ее в этом ожидании и сказал, что она опять похорошела, как летом, но что немного похудела.
— Отсутствие деревенского воздуха и маленький беспорядок в образе жизни заметно подействовали на вас, — сказал он. — Вам, милая Ольга Сергевна, нужен воздух полей и деревня.
Он несколько раз поцеловал ей руку, так что крашеные усы оставили даже маленькое пятнышко на пальцах.
— Да, деревня, — отвечала она задумчиво, но не ему, а так кому-то, на воздух.
— A propos о деревне, — прибавил он, — в будущем месяце дело ваше кончится, и в апреле вы можете ехать в свое имение. Оно невелико, но местоположение — чудо! Вы будете довольны. Какой дом! Сад! Там есть один павильон, на горе: вы его полюбите. Вид на реку… вы не помните, вы пяти лет были, когда папа выехал оттуда и увез вас.
— Ах, как я буду рада! — сказала она и задумалась.
«Теперь уж решено, — подумала она, — мы поедем туда, но он узнает об этом не прежде, как…»
— В будущем месяце, барон? — живо спросила она. — Это верно?
— Как то, что вы прекрасны вообще, а сегодня в особенности, — сказал он и пошел к тетке.
Ольга осталась на своем месте и замечталась о близком счастье, но она решилась не говорить Обломову об этой новости, о своих будущих планах.
Она хотела доследить до конца, как в его ленивой душе любовь совершит переворот, как окончательно спадет с него гнет, как он не устоит перед близким счастьем, получит благоприятный ответ из деревни и, сияющий, прибежит, прилетит и положит его к ее ногам, как они оба, вперегонку, бросятся к тетке, и потом…
Потом вдруг она скажет ему, что и у нее есть деревня, сад, павильон, вид на реку и дом, совсем готовый для житья, как надо прежде поехать туда, потом в Обломовку.
«Нет, не хочу благоприятного ответа, — подумала она, — он загордится и не почувствует даже радости, что у меня есть свое имение, дом, сад… Нет, пусть он лучше придет расстроенный неприятным письмом, что в деревне беспорядок, что надо ему побывать самому. Он поскачет сломя голову в Обломовку, наскоро сделает все нужные распоряжения, многое забудет, не сумеет, все кое-как, и поскачет обратно, и вдруг узнает, что не надо было скакать — что есть дом, сад и павильон с видом, что есть где жить и без его Обломовки… Да, да, она ни за что не скажет ему, выдержит до конца; пусть он съездит туда, пусть пошевелится, оживет — все для нее, во имя будущего счастья! Или нет: зачем посылать его в деревню, расставаться? Нет, когда он в дорожном платье придет к ней бледный, печальный, прощаться на месяц, она вдруг скажет ему, что не надо ехать до лета: тогда вместе поедут…»
Так мечтала она и побежала к барону, и искусно предупредила его, чтоб он до времени об этой новости не говорил никому, решительно никому. Под этим никому она разумела одного Обломова.
— Да, да, зачем? — подтвердил он. — Разве мсьё Обломову только, если речь зайдет…
Ольга выдержала себя и равнодушно сказала:
— Нет, и ему не говорите.
— Ваша воля, вы знаете, для меня закон… — прибавил барон любезно.
Она была не без лукавства. Если ей очень хотелось взглянуть на Обломова при свидетелях, она прежде взглянет попеременно на троих других, потом уж на него.
Сколько соображений — все для Обломова! Сколько раз загорались два пятна у ней на щеках! Сколько раз она тронет то тот, то другой клавиш, чтоб узнать, не слишком ли высоко настроено фортепьяно, или переложит ноты с одного места на другое! И вдруг нет его! Что это значит?
Три, четыре часа — все нет! В половине пятого красота ее, расцветание начали пропадать: она стала заметно увядать и села за стол побледневшая.
А прочие ничего: никто и не замечает — все едят те блюда, которые готовились для него, разговаривают так весело, равнодушно.
После обеда, вечером — его нет, нет. До десяти часов она волновалась надеждой, страхом; в десять часов ушла к себе.
Сначала она обрушила мысленно на его голову всю желчь, накипевшую в сердце: не было едкого сарказма, горячего слова, какие только были в ее лексиконе, которыми бы она мысленно не казнила его.
Потом вдруг как будто весь организм ее наполнился огнем, потом льдом.
«Он болен; он один; он не может даже писать…» — сверкнуло у ней в голове.
Это убеждение овладело ею вполне и не дало ей уснуть всю ночь. Она лихорадочно вздремнула два часа, бредила ночью, но потом утром встала хотя бледная, но такая покойная, решительная.