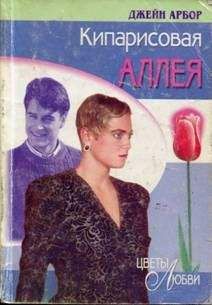Аксель Мунте - Легенда о Сан-Микеле
Оркестру предстояло отбыть с первым пароходом в шесть часов утра. По дороге на пристань музыканты, как всегда, остановились на рассвете под окнами Сан-Микеле, чтобы сыграть в мою честь Serenata d'Addio[97]. Я словно теперь вижу, как Генри Джеймс в пижаме выглядывал из окна своей спальни и хохотал. За ночь оркестр значительно сократился в числе и утратил часть своей энергии. Капельмейстер бредил, двое из гобоистов кашляли кровью, фаготист растянул сухожилие, барабанщик вывихнул плечо, у цимбалиста лопнула барабанная перепонка. Еще два музыканта настолько обессилели от эмоций, что их пришлось везти до пристани на осликах. Остальные лежали на спине посреди улицы под моими окнами и трубили из последних сил свою жалобную серенаду. Подкрепившись чашкой черного кофе, они безмолвно поднялись на ноги, помахали мне на прощание и, пошатываясь, побрели по финикийским ступеням вниз к пристани. Праздник Сант Антонио окончился.
Глава XXXI. Регата
Был великолепный солнечный день в самом разгаре лета. Британское посольство переехало из Рима в Сорренто. На балконе отеля «Витториа» сидел посланник в морской фуражке и напряженно всматривался сквозь монокль в горизонт, ожидая, когда наконец поднимется бриз и нарушит зеркальное спокойствие залива. В маленькой бухте, у его ног, стояла на якоре его любимая «Леди Гермиона», которой так же не терпелось выйти в море, как и ему самому. Ее строили и оснащали по его чертежам, и он вложил немало таланта в эту одноместную быстроходную яхту. Он любил повторять, что готов переплыть на ней Атлантический океан, и гордился этой яхтой больше, чем любым из своих блестящих дипломатических успехов.
Он целые дни проводил в море, и его лицо стало таким же коричневым от загара, как лица соррентийских рыбаков. Побережье от Чивита-Веккиа до мыса Ликоза он знал не хуже меня. Однажды он предложил мне пройти наперегонки до Мессины и, к своему восторгу, шутя меня побил, несмотря на попутный ветер и бурное море.
Погодите, вот я обзаведусь новым топселем и шелковым спинакером — тогда посмотрим! — сказал я.
Он любил Капри и утверждал, что Сан-Микеле прекраснее всего, что ему доводилось видеть, — а видеть ему довелось многое. О долгой истории острова он знал мало, но с любопытством школьника хотел узнать о ней как можно больше.
Я в то время исследовал Голубой Грот. Два раза маэстро Никола вытаскивал меня почти без сознания из знаменитого подземного хода, который, согласно легенде, поднимается внутри скалы вверх на шестьсот футов к вилле Тиберия на плато Дамекуты — название это на самом деле, возможно, всего лишь искаженное Domus Augusta[98]. Я проводил в Голубом Гроте целые дни, и лорд Дафферин часто навещал меня там на своем ялике. После чудесного купания в голубой воде, мы часами сидели у входа в таинственный подземный ход и беседовали о Тиберии и об оргиях, которые он якобы устраивал на Капри, Я объяснил посланнику, что в рассказе о подземном ходе, по которому, согласно легенде, Тиберий спускался в Голубой Грот, чтобы развлекаться с мальчиками и девочками, прежде чем задушить их, истины не больше, чем в прочих грязных сплетнях Светония. Туннель пробит в скале не людьми, а морской водой, медленно в нее просачивавшейся. Я прополз по нему около восьмидесяти ярдов и с риском для жизни убедился, что он никуда не ведет. Грот действительно был известен римлянам, что подтверждается многочисленными остатками стен их кладки. С тех пор остров опустился примерно на шестнадцать футов, и прежний вход в грот оказался ниже уровня моря, хотя и прекрасно виден сквозь прозрачную воду. Небольшое отверстие, через которое он прошел на своем ялике, в те дни было окном, служившим для вентиляции. Грот, конечно, тогда не был голубым и ничем не отличался от других гротов острова. Бедекер неверно указывает, будто Голубой Грот был открыт немецким художником Копишем в 1826 году. Грот был известен еще в XVII веке и назывался «Гротто Градула»; вновь же его открыл в 1822 году Анджело Ферраро, каприйский рыбак, которому за это открытие даже дали пожизненную пенсию.
Мрачный же портрет Тиберия в «Анналах» Тацита, объяснял я лорду Дафферину, чистейшей воды легенда, и история совершила тягчайшую ошибку, предав позору память этого великого императора по свидетельству его ожесточенного обвинителя, «клеветника на род человеческий», как назвал его Наполеон. Тацит был блестящим писателем, но его «Анналы» — это исторические новеллы, а не история. Он вставил наудачу эти двадцать строчек об оргиях на Капри для того, чтобы довершить портрет тирана из тиранов по всем правилам риторической школы, к которой он принадлежал. Проследить весьма сомнительный источник, из которого он почерпнул эти гнусные сплетни, оказалось совсем нетрудно. В моем «Психологическом портрете Тиберия» я указывал, что сплетни эти относятся вовсе не к периоду жизни императора на Капри. Тацит сам не верил в пресловутые оргии, так как упоминание о них не мешает ему рисовать Тиберия великим императором и великим человеком, «прекрасной жизни и отличной репутации», говоря его собственными словами. Даже его куда менее умный последователь Светоний предваряет наиболее грязные истории замечанием, что они «едва ли достойны пересказа и уж совсем недостойны веры». До появления «Анналов» (спустя восемьдесят лет после смерти Тиберия) история Рима не знала другого правителя, чья жизнь была бы столь благородной и незапятнанной, как жизнь старого императора. Никто из многочисленных авторов, писавших о Тиберии (а среди них были его современники, которые, несомненно, знали все римские сплетни), ни словом не упоминает об оргиях на Капри. Благочестивый ученый Филон прямо указывает, что, гостя у приемного деда на Капри, Калигула вынужден был вести скромную и простую жизнь. Даже шакал Светоний, забыв мудрое изречение Квинтилиана, что лжец должен иметь хорошую память, пробалтывается о том, что на Капри Калигула, устраивая какую-нибудь эскападу, надевал парик, чтобы скрыться от бдительного взора старого императора. Сенека, суровый судья нравов, и Плиний (оба его современники) говорят об аскетической жизни отшельника, которую Тиберий вел на Капри. Дион Кассий, правда, упоминает про эти грязные сплетни, но сам указывает, что впал тут в необъяснимое противоречие. Даже не всегда пристойный Ювенал говорит о «тихой старости» императора на его любимом острове, где он был окружен учеными друзьями и астрономами. Строгий моралист Плутарх говорит о полном достоинства уединении старого императора в течение десяти последних лет его жизни. Уже Вольтеру было ясно, что история об оргиях на Капри невозможна с психологической точки зрения. Тиберию было шестьдесят восемь лет, когда он удалился на Капри, и вся его прошлая жизнь свидетельствовала о строгой нравственности, которую не ставили под сомнение даже его злейшие враги. Не выдерживает критики версия о старческом маразме, сопряженном с какой-нибудь зловещей манией. Все историки единодушно утверждают, что император до самой смерти на семьдесят девятом году сохранял полную ясность ума. Кроме того, наследственное предрасположение к безумию прослеживается в роду Юлиев, а не Клавдиев. На Капри Тиберий вел жизнь одинокого старика, усталого повелителя неблагодарного мира, горько разочарованного угрюмого идеалиста. Возможно, он стал ипохондриком, но его блестящий ум и тонкое чувство юмора пережили его веру в человечество. Он не верил окружавшим его людям, презирал их, и в этом нет ничего удивительного: ведь его предали почти все, кому он когда-либо доверял. Тацит приводит его слова, когда, за год до удаления на Капри, он отклонил петицию о том, чтобы ему, как Августу, был воздвигнут храм при жизни. Ни у кого, кроме автора «Анналов», этого блистательного мастера сарказмов и тонких намеков, не хватило бы дерзости высмеять эту обращенную к потомству просьбу старого императора о беспристрастном приговоре:
«Я смертен, сенаторы; и буду доволен, если исполню обязанности человека, долг государя. Беру в свидетели вас и потомство, что во мне нет другого желания. Потомство оценит меня по заслугам, и даже свыше них, если скажет, что я был достоин предков, заботился о ваших делах, был тверд в опасностях, не страшился ненависти, где дело шло о благе общественном. Да будет мой алтарь в сердцах ваших: это лучше и прочнее всех храмов и статуй. Каменный монумент, если суд потомства предаст ненависти того, кому он поставлен, будет попран, как простой надгробный памятник; молю богов, чтобы до конца жизни дали мне спокойный ум, способный обсуждать божественные и человеческие законы. Прошу римских граждан и союзников подарить по смерти мое имя и дела добрым словом и доброю памятью».
Мы вскарабкались наверх к Дамекуте. Старый император знал, что делал, когда выбрал это место для своей самой большой виллы. Если не считать Сан-Микеле, наиболее красивый вид на остров открывается именно с Да-мекуты. Я рассказал посланнику, что многие из найденных здесь статуй попали к его коллеге сэру Уильяму Гамильтону, который был британским посланником в Неаполе во времена Нельсона. Эти статуи находятся в настоящее время в Британском музее. Но их, должно быть, еще много покоится в земле под виноградником — я объяснил, что думаю на следующий год начать серьезные раскопки, так как виноградник принадлежит теперь мне. Лорд Дафферин поднял заржавленную солдатскую пуговицу, валявшуюся среди осколков мозаики и мрамора. Корсиканские стрелки! Да, здесь были расквартированы в 1808 году две сотни корсиканских стрелков, но, к сожалению, главные силы английского гарнизона в Анакапри состояли из мальтийцев, которые в панике отступили, когда французы атаковали их лагерь. Мы посмотрели вниз на утесы Орико, и я показал посланнику место, где высадились французы и откуда они поднялись на отвесную скалу, — мы оба согласились, что это был настоящий подвиг. Да, англичане сражались с обычной храбростью, но должны были под покровом ночи отступить туда, где теперь стоит Сан-Микеле, и там их начальник, майор Хамилл, ирландец, как и он сам, скончался от ран. Его похоронили на кладбище Анакапри. Двухфунтовая пушка, которую его солдаты вынуждены были бросить, когда на следующий день спускались по финикийским ступеням, отступая в Капри, до сих пор лежит у меня в саду. На рассвете французы открыли огонь по Капри с высот горы Соларо — просто невероятно, что им удалось втащить туда пушку. Английский командующий был принужден подписать капитуляцию. Не успели еще просохнуть чернила, как показался английский флот, задержанный штилем у островов Понца. Документ о сдаче был подписан удивительным неудачником, будущим тюремщиком плененного орла на другом острове — сэром Гудзоном Лоу.