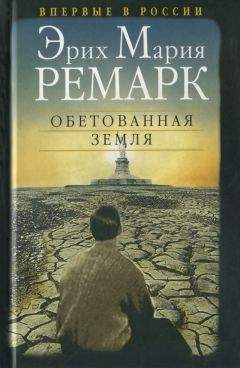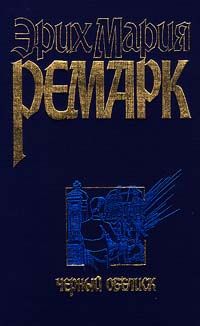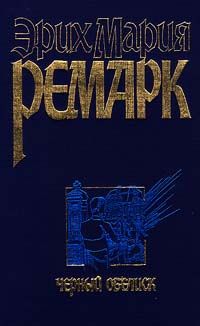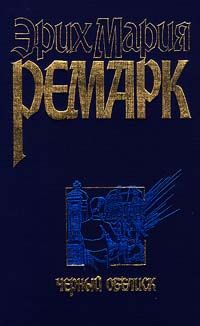Эрих Ремарк - Земля обетованная
— Она догадывается?
— Конечно, догадывается. Как все эмигранты, она ни в какой хороший конец вообще никогда не верит. Почему, думаешь, я весь этот театр устраивал? Ах, Людвиг! Давай-ка зайдем ко мне, выпьем по рюмке. Не ожидал, что на меня это так подействует.
Мы молча шли по вечерним улицам, на мостовых которых мягкий, меркнущий сентябрьский свет смешивался с разгорающимися огнями тысяч витрин. Я наблюдал за Хиршем во время его разговора с Джесси. Не только ее, но и его лицо при этом изменилось, и мне почудилось, что не одни глаза Джесси подернулись мечтательной дымкой воспоминаний — суровые черты маккавея Хирша тоже. Я-то знал: воспоминания, если уж хочешь ими пользоваться, надо держать под неусыпным контролем, как яд, иначе они могут и убить. Украдкой я взглянул на Хирша. Лицо его приняло свое обычное выражение, слегка напряженное и замкнутое.
— А что будет, когда Джесси уже не сможет переносить мучения? — спросил я.
— По-моему, Равич не даст ей страдать и не станет держать ее в концлагере Господа Бога распятой на больничной койке, — мрачно ответил Хирш. — Он, конечно, подождет, пока Джесси сама этого не захочет. Пусть даже она ему об этом не скажет. Равич сам за нее все почувствует. Как почувствовал за Джоан Маду. Только не верю я, что Джесси этого захочет. Она будет бороться за каждый час жизни.
Роберт Хирш открыл дверь своего магазина. Нас с порога обдало холодным дыханием кондиционера.
— Как из могилы Лазаря, — буркнул Хирш и отключил охлаждение. — По-моему, он нам сейчас уже ни к чему, — добавил он. — Ненавижу этот отвратительный, искусственный воздух! Лет через сто люди вообще будут жить под землей из страха перед достижениями человечества. Поверь, Людвиг, эта война не последняя. — Он принес бутылку коньяка. — Ты-то, наверно, у твоего господина Блэка теперь не таким коньяком угощаешься, — пробормотал он с кривой усмешкой. — У антикваров всегда коньяк отличный. Профессиональная необходимость.
— Покойный Зоммер, мой учитель и крестный, коньяка вообще не держал, — возразил я. — И я предпочту выпить стакан воды с тобой, чем с Блэком смаковать его «Наполеон». Как поживает Кармен?
— По-моему, ей со мной скучно.
— Что за бред! Скорее я могу предположить, что тебе с ней скучно…
Он покачал головой.
— Это исключено. Я же тебе объяснял. Мне никогда не понять ее, поэтому и ей меня никогда не понять. Она для меня — совершенно непроницаемый мир, царство поразительной и непостижимой наивности. В сочетании с ее умопомрачительной красотой это уже не глупость, а тайна. Я же для нее всего лишь продавец электротоваров, слегка тронутый, но в общем-то скорее скучный. И продавец-то даже так себе.
Я взглянул на него. Он горько улыбнулся.
— Все остальное в прошлом, быльем поросло и годится только на то, чтобы потешить общими воспоминаниями умирающую боевую подругу. Да, Людвиг, мы спасены, но даже чувство радостной благодарности за это спасение уже померкло. Его недостаточно, чтобы заполнить мою жизнь. Ты только посмотри на них, на наших с тобой знакомых. С тонущего корабля их выбросило на берег, на котором они теперь валяются, не в силах отдышаться: вроде уже и не выживание, но это и не жизнь. Кто-то, возможно, еще оклемается, придет в себя, обживется. Но только не я, да, по-моему, и не ты. Великое, полуобморочное счастье спасения уже позади. Снова, и уже давно, наступили будни — будни без цели и смысла.
Только не для меня, Роберт. Для меня пока что нет. Да и для тебя еще нет.
Он сокрушенно покачал головой.
— Для меня раньше, чем для кого бы то ни было.
Я знал, о чем он. Для него время во Франции было порой охоты. Он, почти единственный из нас, был не беззащитной жертвой, он сам стал охотником, рискнув противопоставить тупому варварству немецких каннибалов-эсэсовцев хитрость и ум, сметку и отвагу, — и сумел выйти победителем. Для него, но почти исключительно и только для него одного, оккупация Франции стала его личной войной, его личной победой, а не убойной облавой для загнанных жертв. Зато теперь, похоже, наступила неминуемая расплата, ибо всякая пережитая смертельная опасность постепенно приобретает в нашей памяти сомнительный ореол кровавой романтики, если человек вышел из этого испытания не покалечившись, целым и невредимым. А Хирш, по крайней мере внешне, был цел и невредим.
Я попытался его отвлечь.
— Так Боссе получил свои деньги?
Он кивнул.
— Это было проще простого. И все равно мне это не по душе. Не хочу быть карающей Немезидой для жуликоватых евреев. Не верю я, что несчастье облагораживает, а уж счастье и подавно. Так что совсем не все евреи стали ангелами. — Он встал. — Что ты делаешь сегодня вечером? Может, сходим поужинать в «Дары моря»?
Я видел: сегодня я ему нужен. И сам чувствовал себя предателем, когда ответил:
— Я сегодня встречаюсь с Марией. Забираю ее после съемок. Хочешь, пойдем вместе.
Он покачал головой.
— Иди уж. Держи и не упускай. Это я так, на всякий случай.
Я знал, что он откажется. Он хотел побыть со мной вдвоем, выпить, поговорить.
— Пойдем! — предложил я еще раз.
— Нет, Людвиг. Как-нибудь в другой раз. Компаньон из меня сегодня никудышный. Черт его знает, почему с тех пор, как я здесь, смерть так действует мне на нервы. Особенно когда она этак вот незаметно подкрадывается, я имею в виду Джесси. Надо было мне стать врачом, как Равич. Тогда я хоть как-то мог бы с этим бороться. А может, просто мы все перевидали многовато смертей на своем веку?
Было уже довольно поздно, когда я подошел к дому фотографа. На улицу из окон верхнего этажа падал яркий, слепящий свет юпитеров. Белые портьеры ателье были задернуты, и на их фоне двигались тени. На освещенном прямоугольнике мостовой стоял желтый «роллс-ройс». Это был тот самый лимузин, на котором Мария однажды прокатила меня до кафе «Гинденбург» на Восемьдесят шестой улице.
Я остановился в нерешительности, раздумывая, не вернуться ли к Хиршу в унылую холостяцкую пустоту его магазина. Но, вспомнив, сколько я совершил в жизни промахов из-за таких вот скоропалительных решений, вошел в подъезд и направился вверх по лестнице.
Марию я увидел сразу же. В белом, с золотыми цветами, платье она стояла на подиуме под кустом искусственной белой сирени Я заметил, что и она меня тотчас же увидела, хотя и не шелохнулась, потому что ее как раз снимали. Она стояла очень прямо, почти летела как фигура на корабельном носу, и этой позой напомнила мне неудержимую, победоносную Нику Самофракийскую из Лувра. Мария была очень красива, и на миг я даже усомнился, вправду ли эта женщина имеет ко мне какое-то отношение, столько гордости и неприступного одиночества было во всей ее осанке. И тут я почувствовал, как кто-то теребит меня за рукав.
Это был лионский шелковый фабрикант. Крупные капли пота выступили у него по всей лысине. Я смотрел на него со смесью изумления и интереса: мне всегда казалось, что лысые почти не потеют.
— Красота, верно? — прошептал он. — И в основном лионские ткани. Доставлены на бомбардировщиках. А уж теперь, когда Париж снова наш, мы будем получать еще больше шелка. Так что к весне все опять наладится. И слава Богу, верно?
— Конечно. То есть вы считаете, что к весне война кончится?
— Для Франции-то гораздо раньше. И вообще, теперь это уже дело месяцев, скоро все будет позади.
— Вы уверены?
— Совершенно. Я только что как раз о том же самом говорил с господином Мартином из Государственного департамента.
«Дело месяцев, — подумал я. — Несколько месяцев, вот и все, что у меня осталось на эту юную красоту, которая застыла сейчас там, на подиуме, в свете юпитеров, бесконечно чужая, такая желанная и такая близкая». В следующую секунду Мария уже перестала изображать Нику и стремглав сбежала по ступенькам ко мне.
— Людвиг…
— Я знаю, — перебил я ее. — Желтый «роллс-ройс».
— Я не знала, — прошептала она. — Он приехал без предупреждения. Я тебе звонила. В гостинице тебя не было. Я не хотела…
— Я могу снова уйти, Мария. Я даже хотел сегодня остаться с Робертом Хиршем.
Она посмотрела на меня в упор.
— Это совсем не то, что я хотела сказать…
Я слышал тонкий запах ее теплой кожи, ее пудры, ее косметики.
— Мария! Мария! — заорал фотограф Ники. — Съемки! Съемки! Мы теряем время!
— Все совсем не так, Людвиг! — прошептала она. — Останься! Я хочу…
— Привет, Мария! — раздался чей-то голос у меня за спиной. — Это был потрясающий кадр. Не представишь меня?
Рослый мужчина лет пятидесяти протиснулся мимо меня, направляясь прямо к Марии.
— Мистер Людвиг Зоммер, мистер Рой Мартин, — сказала Мария неожиданно спокойным голосом. — Прошу меня извинить. Мне снова на эшафот. Но я скоро освобожусь.
Мартин остался возле меня.
— Вы, похоже, не американец? — спросил он.