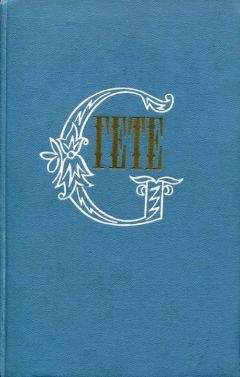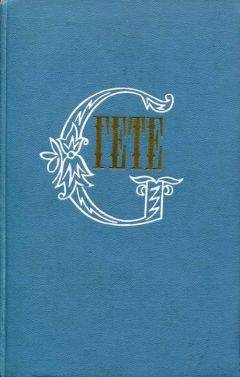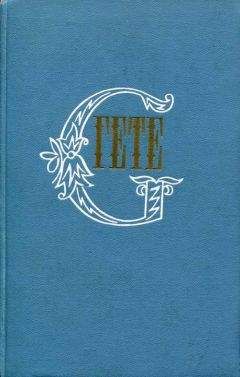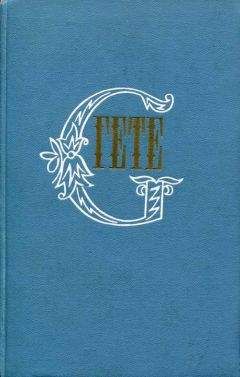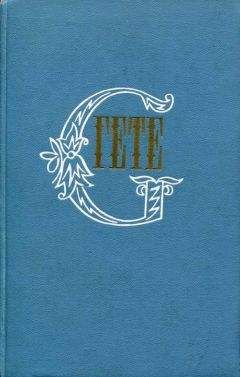Иоганн Гете - Собрание сочинений в десяти томах. Том девятый. Воспоминания и встречи
Все заулыбались, мой рассказ показался им добрым предзнаменованием. Мы еще поговорили о возможном исходе событий, особенно отмечая причины, в силу которых французам выгоднее щадить нас, нежели готовить нам погибель. Эта надежда отчасти оправдывалась уже тем, что по сей день перемирие никем не нарушалось, да и вообще неприятель вел себя крайне сдержанно. Я позволил себе подкрепить их надежды еще одним историческим анекдотом и в этой связи даже сослался на топографическую карту: в двух милях к западу от нас находилось знаменитое Чертово поле, до которого дошел в 452 году царь гуннов Аттила со своей чудовищной ордою, но там был разбит бургундскими князьями при поддержке римского полководца Аэция. Если б бургундские князья завершили свою победу преследованием Аттилы, то он и его народ неминуемо погибли бы все до единого. Но римскому военачальнику было совсем не на руку, чтобы бургундцы сполна избавились от страха перед грозным противником, — ведь тогда они тут же обратили бы свое оружие против римлян. Посему Аэций потихоньку уговорил каждого из князей вернуться восвояси. Так спасся от полного разгрома царь гуннов с остатками своего неисчислимого воинства.
В этот самый миг подоспела весть, что долгожданный хлебный обоз наконец-то прибыл из Гранпре. Такое известие дважды и трижды улучшило наше настроение. Люди разошлись успокоенные, я же до самого утра читал герцогу увлекательную французскую книгу, удивительным образом попавшую в мои руки. Содержавшиеся в ней смелые, легкомысленные шуточки смешили нас, несмотря на наше отчаянное положение, я же не мог не вспомнить веселых егерей под Верденом, которые шли на смерть, горланя похабные песенки. Да, если хочешь разогнать горечь смерти, не следует слишком разбираться в средствах, тому благоприятствующих.
28 сентября.
Хлеб прибыл. Не без трудностей и не без потерь. На скверной дороге между Гранпре, где находилась пекарня, и армией несколько телег накрепко застряло в грязи и стало добычей неприятеля. К тому же часть привезенного не годилась в пищу, ибо в столь поспешно выпеченном водянистом хлебе мякиш быстро отделяется от корки и в промежутке заводится плесень. Вновь стали опасаться отравы. Мне принесли такие хлеба, где в пустотах горел яркий цвет померанца. Красный цвет указывал на мышьяк или серу, как зеленый цвет хлеба под Верденом на медянку. Но если хлеб и не был отравлен, то вид его вызывал омерзение; неудовлетворенная потребность обостряла чувство голода. Так болезни, лишения, дурное расположение духа ложились тяжким бременем на столь многих добрых людей.
В таких стесненных обстоятельствах мы были поражены и опечалены невероятным известием. Говорили, будто герцог Брауншвейгский послал Дюмурье свой злосчастный манифест, и Дюмурье, изумленный и возмущенный его содержанием, заявил о немедленном прекращении перемирия и возобновлении боевых действий. Как бы велики ни были наши беды, как ни предвидели мы еще большие в самом ближайшем будущем, мы не могли перестать шутить и смеяться. Мы говорили: «Посмотрите, какие беды влечет за собой сочинительство!» Поэты и писатели любят читать свои сочинения всем и каждому, не сообразуясь, ко времени ли это или нет. Такая судьба постигла и герцога Брауншвейгского: видимо, радуясь тому, как ловко написан его манифест, он опять, в самую неподходящую минуту, извлек его на свет божий и пустил в оборот…
Мы ожидали вновь услышать перестрелку пикетов и разъездов, мы смотрели по сторонам, не покажется ли на холме противник, но вокруг все было тихо и спокойно, будто ничего такого с нами и не приключалось. И все же жить в томительной неизвестности и неуверенности было неизъяснимо мучительно, — ведь каждый сознавал, что мы стратегически обречены на гибель, если враг вознамерится нас потеснить или хотя бы потревожить. А между тем в этой же неизвестности таился как бы намек на то, что мы о чем-то все же договорились, достигнув более гуманного взаимопонимания. Так, к примеру, почтмейстер из Сент-Мену был обменен на тех самых господ из свиты герцога Брауншвейгского, что попали в плен двадцатого числа между вагенбургом и армией.
29 сентября.
К вечеру в соответствии с полученным приказом, обоз тронулся с места. Его должен был сопровождать полк герцога Брауншвейгского. В полночь вслед за ним выступила и армия. Все закопошилось, но нехотя и неторопливо, ибо даже железной воле как не поскользнуться на склизкой земле и не погрязнуть в вязкой жиже. Но и эти часы миновали: время и сроки не стоят на месте даже в самый ненастный день.
Настала ночь. И она пройдет без сна. Небо было довольно ясное, светила полная луна, только нечего было ей освещать. Палатки исчезли; поклажа, повозки и лошади — тоже. Наша небольшая компания оказалась в довольно странном положении. Мы находились как раз в том месте, куда должны были привести лошадей. Но они отсутствовали. И сколько мы ни озирались кругом при бледном лунном свете, все было пусто и пустынно: ни звука, ни образа! Мы качались то вверх, то вниз на зыбких волнах сомнения. Покинуть условленное место мы не решались, чтобы не сбить с толку товарищей и не разминуться с ними окончательно. Жутко оставаться во вражеской стране в полном одиночестве, жутко чувствовать себя если не вовсе покинутыми, то как бы брошенными на произвол судьбы. Мы чутко прислушивались: не обнаружит ли себя притаившийся враг. Но все было тихо — никакого знака, ни доброго, ни зловещего.
Вслед за тем мы не спеша снесли в одно место всю солому, оставшуюся от палаток, и подожгли ее — не без страха себя обнаружить. Привлеченная огнем, тут нежданно объявилась старая маркитантка: скитаясь по тылам, она, видать, не теряла времени, вся была обвешена туго набитыми узлами. Поздоровавшись с нами и чуть обогревшись, она стала превозносить великого Фридриха и Семилетнюю войну, когда она, по ее словам, была еще девчонкой, но тем беспощаднее поносила нынешних государей и полководцев, завлекших столько народа в страну, где маркитантка не может заняться своим ремеслом, тогда как войны ради того только и ведутся. Такой забавный взгляд на мировые события развеял наши тяжкие думы. А тут, очень кстати, подоспели наши кони, и мы начали отступать совместно с Веймарским полком, полные самых мрачных предчувствий.
Меры предосторожности и строжайшие приказы командования заставляли опасаться, что враг не будет безучастно взирать на нашу ретираду. Мы со страхом наблюдали за медленным продвижением всех наших повозок и тем более нашей артиллерии, когда колеса глубоко врезались в размякшую почву. Так было днем, а что будет ночью! С огорчением смотрели мы на обозные телеги, опрокинутые на середине ручья, и с сердечным состраданием на оставляемых без всякой помощи занемогших солдат. Всякий, хоть мало-мальски знакомый со здешней местностью, ясно понимал, что стоит только врагу, — а он нас окружал и слева, и справа, и с тылу, — захотеть на нас обрушиться, и спасения нам не будет. Но поскольку в первые часы отступления ничего такого не произошло, люди с присущей им потребностью надеяться на лучшее приободрились, дух человеческий, привыкший приписывать всему на свете и разум и здравый рассудок, пришел к заключению, что переговоры между двумя ставками, Ан и Сент-Мену, кончились для нас благоприятно. Вера в благой исход переговоров росла с каждым часом. И когда я увидел на привале, как все наши повозки и экипажи выстроились в полном порядке за деревней Сен-Жан, я был уже твердо убежден, что мы вернемся домой и что нам представится случай рассказать о перенесенных нами испытаниях в хорошем обществе («devant les dames»[12]). Я поделился и этими моими надеждами с друзьями и товарищами, и мы скорее весело, чем трагически стали относиться к невзгодам сего непригожего дня.
Лагерь не разбивали, но наши раскинули большой шатер, выложив его снаружи и изнутри великолепными пшеничными снопами, — таков был наш ночлег. Луна ярко светила при полном безветрии, на небе, чуть различимые, скользили легкие облака. Все кругом было видно, почти как днем. И спящие люди, и кони, которым мешал уснуть неуталенный голод, — среди них много белых, мощно отражавших белизну лунного света, — а также белые кожухи экипажей и белые же снопы, предназначенные для ночлега — все сообщало свет и радость этой упоительной сцене. Уверен, что даже истинно великий художник был бы счастлив точно воссоздать умиротворенность этой картины.
Лишь очень поздно я вошел под сень большого шатра в надежде забыться глубоким сном. Но природа наряду с лучшими своими дарами создает и несноснейшие. Я отношу к самым подлым преступлениям против человечности привычку человека, чем глубже он погружается в сон, тем беспощаднее не давать уснуть своему ближнему богомерзким храпом. Мы лежали голова к голове, я внутри шатра, он снаружи, испуская ужасные стоны, отбивающие всякую надежду обрести вожделенный покой. Желая взглянуть на виновника моей бессонницы, я отстегнул петлю от колышка. То был один из слуг нашего герцога, славный услужливый парень. Ярко освещенный луной, он спал крепчайшим сном, не уступавшим сну божественного Эндимиона. Невозможность заснуть рядом с таким соседом толкнула меня на коварный поступок: вооружившись пшеничным колосом, я пощекотал им лоб и нос спящего. Его глубокий сон тотчас прервался, он несколько раз провел по лицу ладонью. Но стоило ему снова заснуть, как я вновь повторял свою проделку, а он и не подумал, откуда мог взяться слепень в такое время года. Своего я, однако, добился: стряхнув с себя сон, он поднялся со своего ложа. Но и у меня пропала охота уснуть. Я вышел из шатра и залюбовался мало изменившейся дивной картиной бесконечного покоя. В такие мгновения страх и надежда, печаль и успокоение сменяют друг друга с быстротою вспышек молнии. И опять меня объял страх: стоило только подумать, что враг нападет на нас в эту самую минуту и тогда отсюда и впрямь не унесешь ни спицы от колеса, ни ноги, ни руки человеческой.