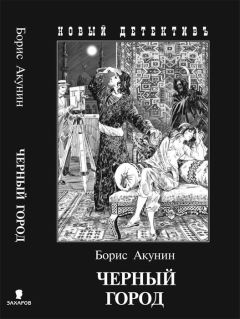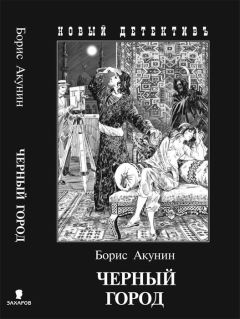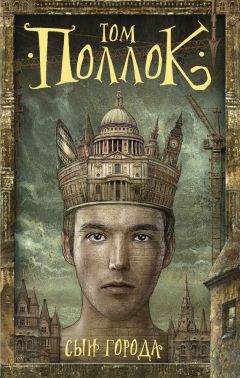Томас Гарди - Мэр Кестербриджа
Как умела эта девушка чутьем угадывать его переживания! Однако она не угадала, до какой крайности он дошел.
Он сказал ей:
— Как ты думаешь, Элизабет, в наши дни все еще случаются чудеса? Я не начитанный человек. Я всю жизнь старался читать и учиться, но чем больше я пытаюсь узнать, тем меньше знаю.
— По-моему, теперь чудес не бывает, — сказала она.
— А разве не бывает, что человек, скажем, решится на отчаянное дело и вдруг натолкнется на препятствие? Может, и не на препятствие в прямом смысле слова. Может, и нет… Впрочем, пойдем со мной, я покажу тебе кое-что и объясню, что хотел сказать.
Она охотно согласилась, и он повел ее по большой дороге, потом по безлюдной тропинке к «Десяти затворам». Он шел неуверенно, словно чья-то невидимая ей, но преследующая его тень мелькала перед ним и мешала ему видеть. Девушке хотелось поговорить о Люсетте, но она боялась помешать его размышлениям. Когда они подошли к плотине, он остановился и попросил Элизабет-Джейн пройти вперед и заглянуть в заводь, а потом сказать, что она там увидит.
Она ушла, но скоро вернулась.
— Я ничего не видела, — сказала она.
— Поди опять, — проговорил Хенчард, — и всмотрись получше.
Она снова пошла на берег. Вернувшись немного погодя, она сказала, что видела, как по воде что-то плывет, но что именно, различить не смогла. Ей показалось, будто это какое-то тряпье.
— Оно похоже на мою одежду? — спросил Хенчард.
— Да… похоже. Господи… неужели это? Отец, уйдемте отсюда!
— Иди и посмотри еще раз. А потом пойдем домой.
Она опять ушла, и он видел, как она наклонилась так низко, что голова ее чуть не коснулась воды. Она мгновенно выпрямилась и торопливо вернулась.
— Ну, что скажешь теперь? — спросил Хенчард.
— Пойдемте домой.
— Но скажи же мне… скажи… что там плывет?
— Чучело, — быстро ответила она. — Очевидно, его бросили в реку выше по течению, там, где ивняк… хотели отделаться от него, когда узнали обо всем и перепугались. И вот оно приплыло сюда.
— А… так, так… мое изображение! А где другое? Почему только одно это?.. Их шутовство убило ее, но сохранило мне жизнь!
Элизабет-Джейн все думала и думала об этих словах: «сохранило мне жизнь», пока они оба медленно шли в город, и наконец поняла их значение.
— Отец!.. Я не хочу оставлять вас одного в таком состоянии! — воскликнула она. — Можно мне жить у вас и заботиться о вас, как прежде? Мне все равно, что вы бедны. Я готова была переехать к вам еще сегодня утром, но вы не попросили меня.
— И ты спрашиваешь, можно ли тебе жить у меня! — воскликнул он с горечью. — Элизабет, не смейся надо мной. Если б ты только вернулась ко мне!
— Я вернусь, — сказала она.
— Но разве ты можешь простить меня за то, что я раньше был так груб с тобой? Не можешь!
— Я все уже позабыла. Не будем говорить об этом.
Она успокоила его и стала строить планы их совместной жизни; наконец они оба разошлись по домам. Вернувшись, Хенчард побрился — в первый раз за много дней, — надел чистое белье, причесал волосы и с тех пор стал казаться человеком, воскресшим из мертвых.
На следующее утро все объяснилось так, как объясняла Элизабет-Джейн: чучело нашел один пастух, а второе, изображающее Люсетту, было обнаружено немного выше по течению. Но об этом избегали говорить, и чучела уничтожили втихомолку.
Итак, загадочное происшествие получило естественное объяснение; тем не менее Хенчард был убежден, что чучело появилось в заводи не спроста, а в результате чьего-то невидимого вмешательства. Элизабет-Джейн слышала, как он говорил:
«Нет на свете подлеца хуже меня! Но, оказывается, даже я — в руце божьей!»
Глава XLII
Однако внутреннее убеждение Хенчарда в том, что и он «в руне божьей», все больше и больше слабело, по мере того как время медленно отодвигало вдаль событие, внушившее ему это убеждение. Угроза возвращения Ньюсона не давала ему покоя. «Ньюсон обязательно должен вернуться», — думал он.
Но Ньюсон не появлялся. Люсетту унесли на кладбище; Кестербридж в последний раз уделил ей внимание, а затем вновь занялся своими делами, как будто она и не жила на свете. Но Элизабет по-прежнему верила в свое кровное родство с Хенчардом и поселилась у него. Быть может, все-таки Ньюсон ушел навсегда.
Убитый горем Фарфрэ в свое время узнал, что именно послужило причиной, по крайней мере ближайшей причиной, болезни и смерти Люсетты, и его первым побуждением было отомстить именем закона тем, кто совершил это злое дело. Он не хотел ничего предпринимать до похорон. А после них он призадумался. Легкомысленная толпа, затеявшая шутовскую процессию, конечно, не предвидела и не хотела такой катастрофы, какая случилась. Лишь соблазнительная перспектива осрамить местных воротил— это высшее и острейшее наслаждение тех, кто корчится под их каблуком, — и лишь она одна вдохновляла толпу, как полагал Фарфрэ, не подозревавший о подстрекательстве Джаппа. Были у Фарфрэ и другие соображения. Люсетта перед смертью призналась ему во всем, и поднимать шум вокруг ее прошлого не следовало, как ради ее доброго имени, так и в интересах Хенчарда и его собственных. Фарфрэ решил смотреть на прискорбное событие как на несчастный случай, полагая, что это лучший способ проявить уважение к памяти покойной и самый мудрый выход из положения.
Он и Хенчард сознательно избегали встреч. Ради Элизабет Хенчард смирил свою гордыню и согласился принять семенную лавочку, которую члены городского совета во главе с Фарфрэ купили для него, чтобы помочь ему снова встать на ноги. Будь он один, Хенчард, несомненно, отказался бы от помощи, если бы она даже косвенно исходила от человека, на которого он когда-то так яростно напал. Но сочувствие Элизабет и общение с нею были необходимы для самого его существования, и ради этого его гордость облачилась в одежды смирения.
При этой лавочке они и поселились, и Хенчард настороженно предупреждал каждое желание Элизабет с отеческим взиманием, обостренным жгучей, ревнивой боязнью соперничества. Впрочем, сомнительно было, чтобы Ньюсон когда-либо вернулся в Кестербридж заявить о своих отцовских правах на нее. Бродяга, почти иностранец, он несколько лет не видел своей дочери; его любовь к ней, естественно, не могла быть сильной; другие интересы должны были вскоре затмить память о ней, помешав ему вновь начать копаться в прошлом и узнать, что она все еще принадлежит настоящему. Стараясь как-нибудь заглушить укоры совести, Хенчард твердил себе, что он ненамеренно произнес лживые слова, с помощью которых ему удалось сохранить свое вожделенное сокровище, но что они вырвались у него непроизвольно, как последняя вызывающая выходка язвительности, пренебрегающей последствиями. И еще он убеждал себя в том, что Ньюсон не может любить Элизабет так, как любит он, Хенчард, и не положит за нее душу, как с радостью готов был положить он.
Так они жили при лавочке против кладбища, и в течение всего этого года в их жизни не произошло ничего примечательного. Из дому они выходили нечасто, а в базарные дни не выходили вовсе, поэтому видели Доналда Фарфрэ редко, да и то обычно лишь издали, когда он проходил по улице. А он по-прежнему занимался делами, машинально улыбался своим собратьям-торговцам и спорил, заключая сделки, — словом, вел себя так, как обычно ведут себя люди, когда пройдет некоторый срок после понесенной ими утраты.
«Время в свойственном ему одному невеселом стиле» научило Фарфрэ, как следует расценивать его отношения с Люсеттой, и показало все, что в них было и чего в них не было. Есть люди, чье сердце заставляет их упорно хранить верность случайно порученному им судьбой человеку или делу, хранить долго, даже после того, как они поняли, что объект их верности отнюдь не редкостное явление, скорее даже наоборот; и без него их жизнь не полна. Но Фарфрэ был не из таких. Дальновидность, жизнерадостность и стремительность, присущие его натуре, неизбежно должны были извлечь его из той мертвой пустоты, в которую его ввергла утрата. Он не мог не понять, что смерть жены избавила его от угрозы тяжелых осложнений в будущем, заменив их обыденным горем. После того как обнаружилось прошлое Люсетты — а оно рано или поздно не могло не обнаружиться, — трудно было поверить, что дальнейшая жизнь с нею могла сулить счастье.
Однако, наперекор всему этому, образ Люсетты все еще жил в нем, и ее слабости он осуждал очень снисходительно, а ее страдания смягчали гнев, вызванный ее умалчиванием, но этот гнев вспыхивал лишь изредка, угасая с быстротой искры.
К концу года принадлежащая Хенчарду лавка розничной продажи семян и зерна — а она была чуть побольше посудного шкафа — уже стала приносить доход, так что отчим с падчерицей беспечально жили в своем уютном солнечном уголке. В этот период Элизабет-Джейн держалась с внешним спокойствием человека, который живет кипучей внутренней жизнью. Два-три раза в неделю она надолго уходила гулять за город, чаще всего — по дороге в Бадмут. Иногда Хенчарду казалось, что, сидя подле него вечером и чувствуя прилив сил после прогулки, она скорее вежлива, чем ласкова с ним; это его беспокоило, и ко многим уже испытанным им горьким сожалениям прибавилось раскаяние в том, что своей суровой придирчивостью он охладил ее драгоценную нежность еще в то время, когда, она впервые была ему дарована.