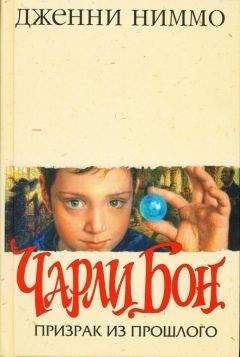Антон Чехов - Рассказы. Повести. 1892-1894
И теперь, наслаждаясь своими мыслями и звуками собственного голоса и с удовольствием поглядывая на умеренно полного, красиво подстриженного, приличного Мейера, Рашевич мечтал о том, как он пристроит свою Женю за хорошего человека и как потом все заботы по имению перейдут к зятю. Неприятные заботы! Проценты в банк не взнесены уже за два срока, и разных недоимок и пеней скопилось больше двух тысяч!
– Для меня не подлежит сомнению, – продолжал Рашевич, всё больше вдохновляясь, – что если какой-нибудь Ричард Львиное Сердце или Фридрих Барбаросса, положим, храбр и великодушен, то эти качества передаются по наследству его сыну вместе с извилинами и мозговыми шишками, и если эти храбрость и великодушие охраняются в сыне путем воспитания и упражнения, и если он женится на принцессе, тоже великодушной и храброй, то эти качества передаются внуку и так далее, пока не становятся видовою особенностью и не переходят органически, так сказать, в плоть и кровь. Благодаря строгому половому подбору, тому, что благородные фамилии инстинктивно охраняли себя от неравных браков и знатные молодые люди не женились чёрт знает на ком, высокие душевные качества передавались из поколения в поколение во всей их чистоте, охранялись и с течением времени через упражнение становились всё совершеннее и выше. Тем, что у человечества есть хорошего, мы обязаны именно природе, правильному естественно-историческому, целесообразному ходу вещей, старательно, в продолжение веков обособлявшему белую кость от черной. Да, батенька мой! Не чумазый же, не кухаркин сын, дал нам литературу, науку, искусства, право, понятия о чести, долге… Всем этим человечество обязано исключительно белой кости, и в этом смысле, с точки зрения естественно-исторической, плохой Собакевич, только потому, что он белая кость, полезнее и выше, чем самый лучший купец, хотя бы этот последний построил пятнадцать музеев. Как хотите-с! И если я чумазому или кухаркину сыну не подаю руки и не сажаю его с собой за стол, то этим самым я охраняю лучшее, что есть на земле, и исполняю одно из высших предначертаний матери-природы, ведущей нас к совершенству…
Рашевич остановился, расчесывая бороду обеими руками; остановилась на стене и его тень, похожая на ножницы.
– Возьмите вы нашу матушку-Расею, – продолжал он, заложив руки в карманы и становясь то на каблуки, то на носки. – Кто ее лучшие люди? Возьмите наших первоклассных художников, литераторов, композиторов… Кто они? Всё это, дорогой мой, были представители белой кости. Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Тургенев, Гончаров, Толстой – не дьячковские дети-с!
– Гончаров был купец, – сказал Мейер.
– Что же! Исключения только подтверждают правило. Да и насчет гениальности-то Гончарова можно еще сильно поспорить. Но оставим имена и вернемся к фактам. Что вы, например, скажете, сударь мой, насчет такого красноречивого факта: как только чумазый полез туда, куда его прежде не пускали – в высший свет, в науку, в литературу, в земство, в суд, то, заметьте, за высшие человеческие права вступилась прежде всего сама природа и первая объявила войну этой орде. В самом деле, как только чумазый полез не в свои сани, то стал киснуть, чахнуть, сходить с ума и вырождаться, и нигде вы не встретите столько неврастеников, психических калек, чахоточных и всяких заморышей, как среди этих голубчиков. Мрут, как осенние мухи. Если бы не это спасительное вырождение, то от нашей цивилизации давно бы уже не осталось камня на камне, всё слопал бы чумазый. Вы скажите мне, сделайте милость: что до сих пор дало нам это нашествие? Что принес с собой чумазый? – Рашевич сделал таинственное, испуганное лицо и продолжал: – Никогда еще наша наука и литература не находились на таком низком уровне, как теперь! У нынешних, сударь мой, ни идей, ни идеалов, и вся их деятельность проникнута одним духом: как бы побольше содрать и с кого бы снять последнюю рубашку. Всех этих нынешних, которые выдают себя за передовых и честных людей, вы можете купить за рубль-целковый, и современный интеллигент отличается именно тою особенностью, что когда вы говорите с ним, то должны покрепче держаться за карман, а то вытащит бумажник. – Рашевич подмигнул и захохотал. – Ей-богу, вытащит! – проговорил он радостно тонким голоском. – А нравственность? Нравственность какова? – Рашевич оглянулся на дверь. – Теперь уже не удивляются, когда жена обкрадывает и покидает мужа, – это что, пустяки! Нынче, батенька, двенадцатилетняя девчонка норовит уже иметь любовника, и все эти любительские спектакли и литературные вечера придуманы для того только, чтобы легче было подцепить богатого кулака и пойти к нему на содержание… Матери продают своих дочерей, а у мужей прямо так и спрашивают, по какой цене продаются их жены, и можно даже поторговаться, дорогой мой…
Мейер, всё время молчавший и сидевший неподвижно, вдруг поднялся с дивана и посмотрел на часы.
– Виноват, Павел Ильич, – сказал он, – мне уже пора домой.
Но Павел Ильич, который еще не кончил говорить, обнял его и, насильно усаживая на диван, поклялся, что не отпустит его без ужина. И Мейер опять сидел и слушал, но уже посматривал на Рашевича с недоумением и тревогой, как будто только теперь начинал понимать его. Красные пятна выступили у него на лице. И когда, наконец, вошла горничная и сказала, что барышни просят ужинать, он легко вздохнул и первый вышел из кабинета.
В соседней комнате за столом сидели дочери Рашевича, Женя и Ираида, 24 и 22-х лет, обе черноглазые, очень бледные, одинакового роста. Женя с распущенными волосами, а Ираида с высокою прической. Перед тем, как есть, обе выпили по рюмке горькой настойки, с таким видом, как будто это они выпили нечаянно, первый раз в жизни, и обе сконфузились и захохотали.
– Не шалите, девочки, – сказал Рашевич.
Женя и Ираида между собой говорили по-французски, а с отцом и гостем по-русски. Перебивая друг друга и мешая русскую речь с французской, они стали быстро рассказывать, как именно в эту пору, в августе, они в прежние годы уезжали в институт и как это было весело. Теперь же ехать некуда и приходится жить в усадьбе безвыездно всё лето и зиму. Какая скука!
– Не шалите, девочки, – повторил Рашевич.
Ему самому хотелось говорить. Если при нем говорили другие, то он испытывал чувство, похожее на ревность.
– Такие-то дела, дорогой мой… – начал он опять, ласково глядя на следователя. – Мы по доброте и простоте и из страха, чтобы нас не заподозрили в отсталости, братаемся, извините, со всякою дрянью, проповедуем братство и равенство с кулаками и кабатчиками; но если бы мы пожелали вдуматься, то и увидели бы, до какой степени преступна эта наша доброта. Мы сделали то, что цивилизация висит уже на волоске. Дорогой мой! То, что веками добывали наши предки, не сегодня-завтра будет поругано и истреблено этими новейшими гуннами…
После ужина все пошли в гостиную. Женя и Ираида зажгли свечи на рояле, приготовили ноты… Но отец всё продолжал говорить, и неизвестно было, когда он кончит. Они уже с тоской и досадой смотрели на эгоиста-отца, для которого, очевидно, удовольствие поболтать и блеснуть своим умом было дороже и важнее, чем счастье дочерей. Мейер – единственный молодой человек, который бывал в их доме, бывал – они это знали – ради их милого женского общества, но неугомонный старик завладел им и не отпускал его от себя ни на шаг.
– Подобно тому, как западные рыцари отразили нападение монголов, так и мы, пока еще не поздно, должны сплотиться и ударить дружно на нашего врага, – продолжал Рашевич тоном проповедника, поднимая вверх правую руку. – Пусть я явлюсь перед чумазым не как Павел Ильич, а как грозный и сильный Ричард Львиное Сердце. Перестанем же деликатничать с ним, довольно! Давайте мы все сговоримся, что едва близко подойдет к нам чумазый, как мы бросим ему прямо в харю слова пренебрежения: «Руки прочь! Сверчок, знай свой шесток!» Прямо в харю! – продолжал Рашевич с восторгом, тыча перед собой согнутым пальцем. – В харю! В харю!
– Я не могу этого, – проговорил Мейер, отворачиваясь.
– Почему же? – живо спросил Рашевич, предчувствуя интересный и продолжительный спор. – Почему же?
– Потому, что я сам мещанин.
Сказавши это, Мейер покраснел, и даже шея у него надулась, и даже слезы заблестели на глазах.
– Мой отец был простым рабочим, – добавил он грубым, отрывистым голосом, – но я в этом не вижу ничего дурного.
Рашевич страшно смутился и, ошеломленный, точно пойманный на месте преступления, растерянно смотрел на Мейера и не знал, что сказать. Женя и Ираида покраснели и нагнулись к нотам; им было стыдно за своего бестактного отца. Минута прошла в молчании, и стало невыносимо совестно, когда вдруг как-то болезненно, натянуто и некстати прозвучали в воздухе слова:
– Да, я мещанин и горжусь этим.
Затем Мейер, неловко спотыкаясь о мебель, простился и быстро пошел в переднюю, хотя еще не подавали лошадей.