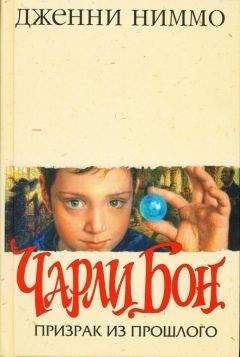Антон Чехов - Рассказы. Повести. 1892-1894
– Фуй, как нехорошо! – повторил он, отлично понимая, что эти рассуждения сами по себе уже дурной знак.
Когда он пришел домой, Маня была в постели. Она ровно дышала и улыбалась и, по-видимому, спала с большим удовольствием. Возле нее, свернувшись клубочком, лежал белый кот и мурлыкал. Пока Никитин зажигал свечу и закуривал, Маня проснулась и с жадностью выпила стакан воды.
– Мармеладу наелась, – сказала она и засмеялась. – Ты у наших был? – спросила она, помолчав.
– Нет, не был.
Никитин уже знал, что штабс-капитан Полянский, на которого в последнее время сильно рассчитывала Варя, получил перевод в одну из западных губерний и уже делал в городе прощальные визиты, и поэтому в доме тестя было скучно.
– Вечером заходила Варя, – сказала Маня, садясь. – Она ничего не говорила, но по лицу видно, как ей тяжело, бедняжке. Терпеть не могу Полянского. Толстый, обрюзг, а когда ходит или танцует, щеки трясутся… Не моего романа. Но все-таки я считала его порядочным человеком.
– Я и теперь считаю его порядочным.
– А зачем он так дурно поступил с Варей?
– Почему же дурно? – спросил Никитин, начиная чувствовать раздражение против белого кота, который потягивался, выгнув спину. – Насколько мне известно, он предложения не делал и обещаний никаких не давал.
– А зачем он часто бывал в доме? Если не намерен жениться, то не ходи.
Никитин потушил свечу и лег. Но не хотелось ни спать, ни лежать. Ему казалось, что голова у него громадная и пустая, как амбар, и что в ней бродят новые, какие-то особенные мысли в виде длинных теней. Он думал о том, что, кроме мягкого лампадного света, улыбающегося тихому семейному счастью, кроме этого мирка, в котором так спокойно и сладко живется ему и вот этому коту, есть ведь еще другой мир… И ему страстно, до тоски вдруг захотелось в этот другой мир, чтобы самому работать где-нибудь на заводе или в большой мастерской, говорить с кафедры, сочинять, печатать, шуметь, утомляться, страдать… Ему захотелось чего-нибудь такого, что захватило бы его до забвения самого себя, до равнодушия к личному счастью, ощущения которого так однообразны. И в воображении вдруг, как живой, вырос бритый Шебалдин и проговорил с ужасом:
– Вы не читали даже Лессинга! Как вы отстали! Боже, как вы опустились!
Маня опять стала пить воду. Он взглянул на ее шею, полные плечи и грудь и вспомнил слово, которое когда-то в церкви сказал бригадный генерал: роза?н.
– Роза?н, – пробормотал он и засмеялся.
В ответ ему под кроватью заворчала сонная Мушка:
– Ррр… нга-нга-нга…
Тяжелая злоба, точно холодный молоток, повернулась в его душе, и ему захотелось сказать Мане что-нибудь грубое и даже вскочить и ударить ее. Началось сердцебиение.
– Так значит, – спросил он, сдерживая себя, – если я ходил к вам в дом, то непременно должен был жениться на тебе?
– Конечно. Ты сам это отлично понимаешь.
– Мило.
И через минуту опять повторил:
– Мило.
Чтобы не сказать лишнего и успокоить сердце, Никитин пошел к себе в кабинет и лег на диван без подушки, потом полежал на полу, на ковре.
«Какой вздор! – успокаивал он себя. – Ты – педагог, работаешь на благороднейшем поприще… Какого же тебе еще нужно другого мира? Что за чепуха!»
Но тотчас же он с уверенностью говорил себе, что он вовсе не педагог, а чиновник, такой же бездарный и безличный, как чех, преподаватель греческого языка; никогда у него не было призвания к учительской деятельности, с педагогией он знаком не был и ею никогда не интересовался, обращаться с детьми не умеет; значение того, что он преподавал, было ему неизвестно, и, быть может, даже он учил тому, что не нужно. Покойный Ипполит Ипполитыч был откровенно туп, и все товарищи и ученики знали, кто он и чего можно ждать от него; он же, Никитин, подобно чеху, умеет скрывать свою тупость и ловко обманывает всех, делая вид, что у него, слава богу, всё идет хорошо. Эти новые мысли пугали Никитина, он отказывался от них, называл их глупыми и верил, что всё это от нервов, что сам же он будет смеяться над собой…
И в самом деле, под утро он уже смеялся над своею нервностью и называл себя бабой, но для него уже было ясно, что покой потерян, вероятно, навсегда и что в двухэтажном нештукатуренном доме счастье для него уже невозможно. Он догадывался, что иллюзия иссякла и уже начиналась новая, нервная, сознательная жизнь, которая не в ладу с покоем и личным счастьем.
На другой день, в воскресенье, он был в гимназической церкви и виделся там с директором и товарищами. Ему казалось, что все они были заняты только тем, что тщательно скрывали свое невежество и недовольство жизнью, и сам он, чтобы не выдать им своего беспокойства, приятно улыбался и говорил о пустяках. Потом он ходил на вокзал и видел там, как пришел и ушел почтовый поезд, и ему приятно было, что он один и что ему не нужно ни с кем разговаривать.
Дома застал он тестя и Варю, которые пришли к нему обедать. Варя была с заплаканными глазами и жаловалась на головную боль, а Шелестов ел очень много и говорил о том, как теперешние молодые люди ненадежны и как мало в них джентльменства.
– Это хамство! – говорил он. – Так я ему прямо и скажу: это хамство, милостивый государь!
Никитин приятно улыбался и помогал Мане угощать гостей, но после обеда пошел к себе в кабинет и заперся.
Мартовское солнце светило ярко, и сквозь оконные стекла падали на стол горячие лучи. Было еще только двадцатое число, но уже ездили на колесах, и в саду шумели скворцы. Похоже было на то, что сейчас вот войдет Манюся, обнимет одною рукой за шею и скажет, что подали к крыльцу верховых лошадей или шарабан, и спросит, что ей надеть, чтобы не озябнуть. Начиналась весна такая же чудесная, как и в прошлом году, и обещала те же радости… Но Никитин думал о том, что хорошо бы взять теперь отпуск и уехать в Москву и остановиться там на Неглинном в знакомых номерах. В соседней комнате пили кофе и говорили о штабс-капитане Полянском, а он старался не слушать и писал в своем дневнике: «Где я, боже мой?! Меня окружает пошлость и пошлость. Скучные, ничтожные люди, горшочки со сметаной, кувшины с молоком, тараканы, глупые женщины… Нет ничего страшнее, оскорбительнее, тоскливее пошлости. Бежать отсюда, бежать сегодня же, иначе я сойду с ума!»
В усадьбе
Павел Ильич Рашевич ходил, мягко ступая по полу, покрытому малороссийскими плахтами, и бросая длинную узкую тень на стену и потолок, а его гость Мейер, исправляющий должность судебного следователя, сидел на турецком диване, поджав под себя одну ногу, курил и слушал. Часы уже показывали одиннадцать, и слышно было, как в комнате, соседней с кабинетом, накрывали на стол.
– Как хотите-с, – говорил Рашевич, – с точки зрения братства, равенства и прочее, свинопас Митька, пожалуй, такой же человек, как Гёте или Фридрих Великий; но станьте вы на научную почву, имейте мужество заглянуть фактам прямо в лицо, и для вас станет очевидным, что белая кость – не предрассудок, не бабья выдумка. Белая кость, дорогой мой, имеет естественно-историческое оправдание, и отрицать ее, по-моему, так же странно, как отрицать рога у оленя. Надо считаться с фактами! Вы – юрист и не вкусили никаких других наук, кроме гуманитарных, и вы еще можете обольщать себя иллюзиями насчет равенства, братства и прочее; я же – неисправимый дарвинист, и для меня такие слова, как порода, аристократизм, благородная кровь, – не пустые звуки.
Рашевич был возбужден и говорил с чувством. Глаза у него блестели, pince-nez не держалось на носу, он нервно подергивал плечами, подмигивал, а при слове «дарвинист» молодцевато погляделся в зеркало и обеими руками расчесал свою седую бороду. Он был одет в очень короткий поношенный пиджак и узкие брюки; быстрота движений, молодцеватость и этот кургузый пиджак как-то не шли к нему, и казалось, что его большая длинноволосая благообразная голова, напоминавшая архиерея или маститого поэта, была приставлена к туловищу высокого худощавого и манерного юноши. Когда он широко расставлял ноги, то длинная тень его походила на ножницы.
Вообще он любил поговорить, и всегда ему казалось, что он говорит нечто новое и оригинальное. В присутствии же Мейера он чувствовал необыкновенный подъем духа и наплыв мыслей. Следователь был ему симпатичен и вдохновлял его своею молодостью, здоровьем, прекрасными манерами, солидностью, а главное – своим сердечным отношением к нему и к его семье. Вообще знакомые не любили Рашевича, чуждались его и, как было известно ему, рассказывали про него, будто он разговорами вогнал в гроб свою жену, и называли его за глаза ненавистником и жабой. Один только Мейер, человек новый и непредубежденный, бывал у него часто и охотно и даже где-то говорил, что Рашевич и его дочери – единственные люди в уезде, у которых он чувствует себя тепло, как у родных. Нравился он Рашевичу также и за то, что был молодым человеком, который мог бы составить хорошую партию для Жени, старшей дочери.