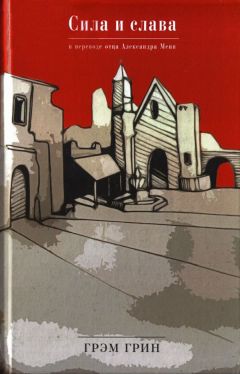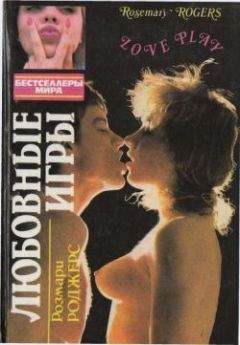Грэм Грин - Избранное
Вечером мы пообедали «У Максима» [107], в малом зале, где тетушка надеялась избежать встречи с туристами. Но одна туристка туда все же затесалась — на ней была мужская рубашка с галстуком и пиджак, и говорила она басом. Голос ее гудел, заглушая не только ее спутницу, щупленькую блондиночку неопределенного возраста, но и весь зал. Как многие англичане за границей, она, по-видимому, не замечала сидящих вокруг иностранцев и разговаривала так громко, словно, кроме нее и ее спутницы, в ресторане никого не было. Низкий голос как будто чревовещал, и когда я услыхал его, то сначала решил, что он принадлежит старому джентльмену с ленточкой Почетного легиона: он сидел за столиком напротив и видно было, что он с детства приучен не менее тридцати двух раз прожевывать каждый кусок мяса. «Четвероногие, детка, мне всегда напоминают столы. Настолько они устойчивей и разумней двуногих: они могут спать стоя». Все, кто понимал по-английски, повернули головы и посмотрели на старика. Он резко глотнул воздух, когда обнаружил себя в центре всеобщего внимания. «Можно даже поставить приборы на мужскую спину и пообедать, если спина достаточно широкая», — гудел голос, а щупленькая блондинка захихикала. «Да ну тебя, Эдит!» — воскликнула она, выдав таким образом оратора. Я не уверен, что англичанка понимала, что она делает, — она, скорее всего, была чревовещательницей, не осознавая этого, и, поскольку ее окружали лишь невежественные иностранцы — а может, слегка опьянев от непривычного для нее вина, — она перестала себя контролировать.
У нее был хорошо поставленный интеллигентный профессорский голос. Я ясно представил себе, как она читает лекцию по английской литературе в одном из старых университетов, и впервые за вечер я отвлекся от тети Августы. «Дарвин — не тот, другой Дарвин — написал стихи о любви растений [108]. Я могу легко вообразить, что можно написать стихи о любви столов. Идея странная, но, подумай, дорогая, как прелестно — столы, блаженно приникшие друг к другу».
— Почему на тебя все смотрят? — спросила тетушка.
Я почувствовал себя неловко, к тому же женщина неожиданно замолчала и принялась за carré dʼagneau [109]. Все дело в том, что у меня есть привычка бессознательно шевелить губами, когда я думаю, и всем присутствующим, кроме моих ближайших соседей, видимо, показалось, что я автор этого двусмысленного монолога.
— Понятия не имею, — сказал я.
— Ты, наверное, ведешь себя как-то странно, Генри.
— Ничего странного, я размышляю.
Как бы мне хотелось избавиться от этой привычки. Она, очевидно, появилась, когда я работал кассиром и считал про себя пачки банкнотов. Эта привычка однажды сыграла со мной предательскую шутку и поставила в неловкое положение перед женщиной. Звали ее миссис Бленнерхассет — она была совершенно глухая и читала по губам. Это была очень красивая женщина, жена мэра Саутвуда, и ко мне в кабинет она пришла для того, чтобы получить консультацию насчет вкладов. И пока я листал папку с ее бумагами, я, очевидно, с невольным чувством восхищения думал о том, какая она красивая. В своих мыслях человек всегда свободнее, чем в речах, и, когда я поднял глаза, я увидел, что она покраснела. Она торопливо закончила разговор и ушла. Позже, к моему удивлению, она пришла снова. Она внесла какие-то мелкие изменения в решение, к которому мы пришли относительно ее облигаций военного займа, а потом спросила:
— Вы и вправду так думаете, как вы мне сказали?
Я полагал, что разговор идет о совете, который я дал ей в отношении государственного сберегательного сертификата.
— Ну конечно, — сказал я. — Это мое искреннее мнение.
— Спасибо, — ответила она. — Вы только не считайте, что я обиделась. Ни одна женщина не обиделась бы на вас за ваши слова, выраженные в такой поэтичной форме, но мой долг сказать вам, мистер Пуллинг, что я по-настоящему люблю моего мужа.
Самое грустное заключалось в том, что она, будучи глухой, не делала различий между произнесенными словами и движениями губ, передающих невысказанные мысли. С того дня она была неизменно со мной любезна, но никогда больше не заходила ко мне в кабинет.
В тот вечер на Лионском вокзале я посадил тетушку в купе и сказал проводнику, чтобы он принес petit déjeuner [110] в восемь утра. Сам я остался ждать на платформе лондонский поезд с Северного вокзала. Он опаздывал на пять минут, и Восточный экспресс должен был его дожидаться.
Когда поезд медленно входил в вокзал, затопив паром платформу, я увидел шагающего сквозь дым Вордсворта. Он сразу же узнал меня.
— Привет, парень! — заорал он.
Он поднабрался американских манер во время войны, когда во Фритаунской гавани стояли конвойные суда, идущие на Ближний Восток.
Без всякой охоты я двинулся ему навстречу.
— Что вы здесь делаете? — спросил я.
Я никогда не любил неожиданностей, будь то событие или встреча, но в обществе тетушки я начал постепенно к ним привыкать.
— Мистер Пуллен, мистер Пуллен, вы честный человек, мистер Пуллен, — сказал Вордсворт.
Подойдя ближе, он схватил и потряс мне руку.
— Вордсворт вечно ваш друг, мистер Пуллен. — Он говорил так, будто мы с ним знакомы с незапамятных времен и я его старый должник. — Вы не облапошиваете Вордсворт, мистер Пуллен? — Он диким взглядом обшарил поезд. — Где этот девочка?
— Моя тетя, если вы ее имеете в виду, крепко спит в своем купе.
— Тогда, пожалуйста, идите к ней быстро-быстро, скажите Вордсворт сюда пришел.
— Я не собираюсь будить ее. Она старая дама, впереди у нее долгое путешествие. Если вам нужны деньги, возьмите у меня.
Я протянул ему пятьдесят франков.
— Дашбаш не надо, — заявил он. Размашистым жестом он отклонил мою руку, а другой ловко подхватил банкноту. — Надо мой маленький детка.
Мне показался оскорбительным такой тон по отношению к моей тетушке, и я, не ответив, направился к ступенькам вагона, но Вордсворт удержал меня за руку. Силы у него было хоть отбавляй.
— Ты делаешь прыг-прыг с мой детка, — обвинил он меня.
— Вы с ума сошли, Вордсворт. Она ведь мне тетя. Сестра матери.
— Никакой собачий кутерьма?
— Никакой, — ответил я; мне было отвратительно это его выражение. — Даже если бы она не была моей тетей, вы разве не понимаете, что она стара?
— Для прыг-прыг нету стара, — сказал он. — Вы ей говорите, чтобы она приходил обратно Париж. Вордсворт долго-долго ее ждет. Вы говорите нежный слова. Говорите она мой детка сейчас тоже. Вордсворт плохо спит, когда детка нет.
Проводник просил меня подняться в вагон, поезд должен был вот-вот тронуться, и Вордсворт неохотно отпустил меня. Я стоял на верхней ступеньке, пока поезд, несколько раз дернувшись, медленно выходил из Лионского вокзала, Вордсворт шел рядом по платформе в клубах дыма. Он плакал, и я вспомнил о самоубийце, который в пальто, застегнутом на все пуговицы, так же шел навстречу волнам. Глядя на одно из окон нашего вагона, он вдруг запел:
Спи сладко, детка,
Смотри минутка —
Потом засыпай.
Поезд набирал скорость и, дернувшись с усилием в последний раз, оставил Вордсворта позади.
Я протиснулся через толпу пассажиров в коридоре и подошел к тетушкиному купе под номером семьдесят два. Постель была застелена, и на ней сидела незнакомая девушка в мини-юбке, а тетушка, наполовину высунувшись из окна, махала кому-то и посылала воздушные поцелуи. Мы с девушкой неловко переглянулись, не решаясь заговорить и прервать церемонию прощания. Девушка была совсем молоденькой, не старше восемнадцати; лицо ее под слоем тщательно продуманного грима было иссиня-бледным, темные глаза подведены, длинные каштановые волосы с рыжеватым отливом были рассыпаны по плечам. Штрихами карандаша она дорисовала ресницы над верхними и нижними веками, отчего ее собственные ресницы казались накладными и торчали неестественно, как на стереоскопическом снимке. На блузке у нее недоставало двух верхних пуговичек, будто они отскочили, не выдержав давления щенячьей плоти, а глаза, чуть навыкате, как у китайского мопса, были все равно прелестны. Выражение ее глаз человек моего поколения назвал бы сексапильным, хотя нередко причина этого могла быть более прозаическая — близорукость или даже запор. Улыбка ее — когда она поняла, что я не посторонний, ворвавшийся неожиданно в тетушкино купе, и улыбнулась — показалась мне удивительно робкой для девушки со столь броской внешностью: как будто кто-то нарочно так ярко ее вырядил и раскрасил, с тем чтобы выставить как приманку. Козленок, которого привязали к дереву, чтобы выманить из джунглей тигра.
Тетушка отвернулась от окна: лицо ее было перепачкано сажей и залито слезами.
— Дружочек мой дорогой, — пробормотала она. — Хоть поглядела на него в последний раз. В моем возрасте всего можно ждать.