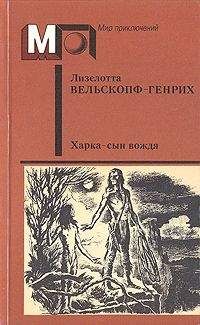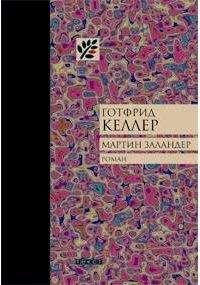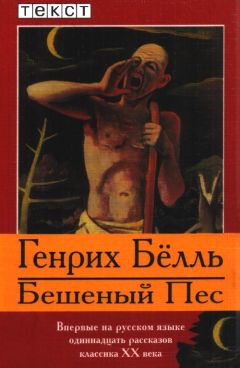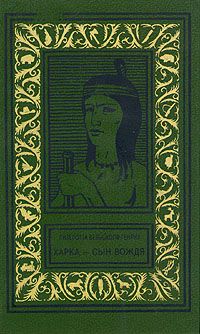Готфрид Келлер - Зеленый Генрих
Глава десятая
СУД В БЕСЕДКЕ
Вооружившись этюдником, я целые дни проводил в лесной чаще; однако с натуры я писал мало; найдя в лесу укромное местечко, где никто не мог меня настичь, я извлекал из папки лист отличной английской бумаги и по памяти писал акварелью портрет Анны. Сидя с рисунком на коленях у зеркально гладкого озерка, под сенью густой листвы, я испытывал истинное блаженство. Рисовал я дурно, поэтому рисунок получался несколько причудливым, однако благодаря известной сноровке автора и ярости накладываемых им красок все в целом невольно привлекало взгляд. Каждый день, украдкой или открыто, я всматривался в Анну и потом исправлял свою картину, пока наконец не добился сходства. Я писал ее во весь рост — она стояла посреди клумбы с цветами, и высокие стебли и головки цветов тянулись к синему небу вслед за высоко поднятой головой Анны; верхний край рисунка был округлен и увит вьющимися растениями, а на ветках сидели яркие птицы и бабочки, краски которых я еще усилил золотистыми бликами. Для того чтобы тщательно выписать все это, а также одеяние Анны, которое я украсил множеством причудливых узоров, пришлось потрудиться немало дней; я провел их в лесу, наслаждаясь своей работой, и лишь изредка прерывал ее, чтобы поиграть на флейте, которую всегда носил с собой. Вечерами после захода солнца я тоже часто выходил на прогулку с моей флейтой, поднимался высоко в гору, откуда видно было расположенное в низине озеро и подле него — домик учителя, и тогда в ночной тишине, под сияющей луной, раздавались мои импровизированные напевы или печальный любовный романс.
Так прошли летние месяцы; я тщательно спрятал свою картину и собирался долго еще укрывать ее от посторонних взоров, ибо каждый, кто взглянул бы на нее, сразу бы увидел в ней весьма бесспорное свидетельство моей любви. Однажды вечером, в сентябре, когда мягкое осеннее солнце озаряло сад, рождая в душе поэтические мечты, я собрался было на прогулку, как вдруг какой-то маленький мальчик принес записку, приглашавшую меня в беседку. Я знал, что там собирались девушки, которые шили приданое для Марго, и что им помогала Анна; сердце мое забилось, я смутно предчувствовал все, что ожидало меня; но я пошел туда, лишь выждав некоторое время, храня на лице полное равнодушие. Девушки полукругом сидели у белого полотна под зеленой крышей из дикого винограда; все они показались мне цветущими красавицами.
Когда я вошел и спросил, зачем они меня позвали, девицы стали смущенно улыбаться и хихикать, так что я уже собирался повернуться и уйти от них. Но тут Марго крикнула:
— Да ты не спеши, мы тебя не съедим! — И затем, откашлявшись, продолжала: — Вот что, милый братец, на твое поведение накопилось множество разных жалоб, и мы здесь собрались, чтобы подвергнуть тебя суду и допросить. От тебя мы требуем, чтобы ты честно, правдиво и смиренно отвечал нам на все наши вопросы! Прежде всего мы желаем знать… да, что мы хотели у него спросить для начала, Катон?
— Любит ли он абрикосы, — ответила та, а Лизетта закричала:
— Нет, сперва надо спросить, сколько ему лет и как его зовут!
— Знаете что, — сказал я, — бросьте дурачиться и приступайте к делу!
Но Марго ответила:
— В общем, ты должен нам сказать, что ты имеешь против Анны и почему ты так с ней обращаешься?
— Что это значит — так? — ответил я в замешательстве, а Анна густо покраснела и уставилась на полотно.
Между тем Марго продолжала:
— Что значит — так? Я и сама не знаю, по какой причине ты, с тех пор как прибыл к нам, не разговариваешь с Анной и ведешь себя, словно ее и на свете нет? Это оскорбительно не только для нее, но и для всех нас, — как хочешь, но такое поведение надо прекратить, хотя бы для благопристойности. Если Анна невольно обидела тебя — скажи, чтобы она могла смиренно покаяться перед тобой. Впрочем, не вздумай гордиться, никто не добивается твоего драгоценного внимания! Мы собрались судить тебя, чтобы соблюсти необходимые приличия и восстановить справедливость.
Я ответил, что изложу причины моей неучтивости по отношению к Анне, как только она сообщит мне причины своего странного обхождения со мной, — и добавил, что также не могу похвастать хотя бы одним ее словечком, обращенным ко мне. На эту мою речь мне заявили: женщина может поступать, как ей заблагорассудится; во всяком случае, именно я должен сделать первый шаг, после чего Анна обязуется обходиться со мной, как со всеми, то есть поддерживать дружественные и благожелательные отношения.
Не без удовольствия слушал я эти слова; они вполне отвечали моему представлению о женщинах как о некоем тайном обществе заговорщиц; они звучали отрадным доказательством того, как бывает хорошо, когда женщины настроены благожелательно. Их высокопарные выражения не смутили меня, и я тотчас вообразил, что они очень во мне нуждаются. Я с улыбкой ответил, что готов подчиниться разумным требованиям и что я и сам ничего иного не желаю, как жить со всеми в мире и дружбе. Я стоял перед ними, не глядя более на Анну, и только заметил, что она старательно вышивает. Лизетта обратилась ко мне и сказала:
— Чтобы положить начало, подай Анне руку и обещай ей: всякий раз, когда ты ее увидишь, ты будешь здороваться с ней, называть ее по имени и спрашивать, как она поживает. Нужно условиться и о том, что каждый день, где бы вы ни встречались, вы будете обмениваться рукопожатием, как принято у добрых христиан!
Я приблизился к Анне, протянул ей руку и, смущаясь, произнес какую-то путаную речь; не глядя на меня, она подала мне руку и при этом наморщила нос и чуть улыбнулась.
Я уж хотел было покинуть беседку, как Марго снова заговорила:
— Терпение, сударь! Приступаем ко второму пункту, в котором надо разобраться. — Она распахнула платки, которыми был накрыт стол, и я увидел написанный мною портрет Анны.
— Мы не собираемся, — продолжала Марго, — давать подробное объяснение по поводу того, как мы добрались до этого таинственного произведения. Оно обнаружено, и теперь мы желаем знать, по какому праву и с какой целью ни в чем не повинных девушек рисуют даже без их ведома?
Анна бросила беглый взгляд на пеструю картину; она была в такой же степени смущена и встревожена, в какой я чувствовал себя посрамленным и раздосадованным. Я заявил, что этот рисунок — моя собственность и что никому на свете я не обязан давать объяснений по этому поводу, независимо от того, извлечено ли это произведение на свет божий или спрятано у меня, как и другие мои вещи, к которым я прошу в будущем относиться с меньшей бесцеремонностью. Произнеся эти слова, я хотел было взять рисунок, но девушки быстро накрыли его полотном и набросали сверху все приданое.
Они заявили, что им далеко не безразлично, если кто-то тайком и для неизвестных целей изготовляет их портреты, и потому потребовали, чтобы я недвусмысленно объяснил, для кого изготовлено сие произведение и что я намерен с ним делать; судя по всему моему поведению, нельзя же предположить, что я намерен сохранить его для себя; да это и вообще было бы недопустимо!
— Дело обстоит очень просто, — заявил я после небольшого раздумья, — я хотел сделать учителю, отцу Анны, подарок к именинам и подумал, что самое большое удовольствие ему доставит портрет его дочери. Если я почему-либо поступил дурно, то могу только пожалеть об этом и никогда больше так не поступать! Может быть, мне следовало нарисовать что-нибудь другое, скажем, его дом или сад на берегу озера, — мне это, в конце концов, все равно!
Правда, прибегнув к такому объяснению, я лишался рисунка, в который вложил много труда и который был мне дорог также и по этой причине; зато оно позволило мне разом оборвать столь неприятный для меня разговор — девушкам совершенно нечего было мне возразить на это; мало того, им еще пришлось похвалить меня за внимание к учителю. Все же они решили сохранить мой рисунок у себя до того дня, когда мы совместно отправимся к учителю и торжественно вручим ему подарок.
Так я утратил свое сокровище, но постарался скрыть огорчение. Между тем маленькая Катон, недовольная происшедшим, снова принялась за меня:
— Ему все равно! Так он сказал? Все равно — рисовать дом или Анну! Что это значит?
И Марго ответила ей:
— А это значит: он — надутый гордец, и ему одинаково безразлично — что дом, что красивая девушка! И прежде всего он хотел этим сказать вот что: не подумайте только, будто я испытывал хотя бы малейший интерес к этому личику, когда его рисовал! Таким образом, он еще раз оскорбил бедную Анну, и теперь она должна получить за это полное удовлетворение.
Марго извлекла из-за корсажа сложенный листок, развернула его и попросила Лизетту прочитать его громко и торжественно. Я насторожился, — что это могло быть? Анна тоже ничего не понимала и в удивлении слегка приподняла голову. Но едва были прочитаны первые слова, как мне все стало ясно: то было мое любовное послание, извлеченное из пчелиного улья. Пока Лизетта читала, меня бросало то в жар, то в холод; как я ни был взволнован, я все же заметил, что Анна лишь постепенно начинала понимать, в чем дело. Остальные девушки, которые сначала лукаво пересмеивались, во время чтения вдруг притихли, пораженные и посрамленные той честной прямотой и силой, с какой было написано письмо; они краснели одна за другой, словно каждая из них принимала эти излияния в свой адрес. Тем временем страх, непобедимый страх перед тем, что скоро прозвучит последнее слово письма, внушил мне новую хитрость. Когда Лизетта умолкла, испытывая немалое смущение, я произнес самым безразличным тоном: