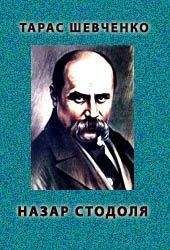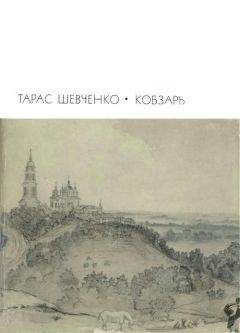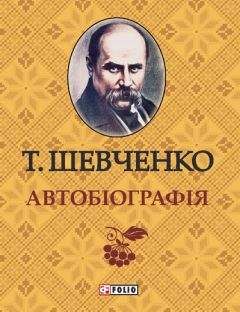Тарас Шевченко - Драматические произведения. Повести
В продолжение моего путешествия от Орла до этой интересной корчмы я просыпался каждое утро в дороге. Догадливый Ермолай никогда не будил меня, да и незачем было будить: я вручил ему мою трехрублевую депозитку еще в Кромах, после дорогих щей, и он всю дорогу рассчитывался за съеденное и выпитое мною на каждом постоялом дворе, а я себе спал сном праведника и просыпался всегда в дороге. Просыпаясь под стук колес и легкое качанье телеги, я иногда снова засыпал и просыпался уже на постоялом дворе.
После неоконченной драмы на слово капитанша проснулся я на другой день уже не рано и, к немалому моему удивлению, не чувствовал ни покачивания телеги, ни холодного утреннего воздуха; прислушивался и не слышал ничего вокруг себя, ни даже постукиванья колес.
«Неужели мы уже проехали станцию? — подумал я. — Да нет, не может быть! Ведь мы должны быть теперь у приятеля моего в деревне около Глухова, а не на постоялом дворе. Да, правда, я ему вчера дорогу не рассказал, а он, дурень, не разбудил меня, когда из корчмы выехал». Решивши так мудро сей вопрос, я снова было задремал, но Ермолай, вероятно, подслушал мое решение, подошел к телеге и сказал:
— Барин, а барин!
— Что, Ермолай? — отозвался я.
— Вы спите? — спросил он.
— Сплю, — отвечал я.
— Пора вставать.
— Хорошо, встану. Не случилось ли чего-нибудь?
— Ничего не случилось, слава богу, все обстоит благополучно.
— Так что же? Ну, и обедай с богом!
— Какой тут обед, барин! у нас нечем и за вчерашний ужин — расплатиться; я деньги все, и свои и ваши, израсходовал!
— Будто ничего не осталось?
— Ни копейки!
«Плохо», — подумал я и потом спросил Ермолая:
— А лошади у тебя сыты?
— Лошади сыты, дворник ничего не знает, отпускает все, что ни спросишь.
— Хорошо. Поди же скажи ему, чтобы самовар нагрел, я сейчас приду.
Ермолай удалился.
В трактир в Туле приходит ко мне какой-то не совсем трезвый человек и предлагает новое одноствольное ружье за три рубля серебром. Я, чтобы отвязаться от него, посулил ему рубль. Он вышел было за двери, не сказавши ни слова; немного погодя опять вошел в комнату, спросил меня, что я шучу с ним или серьезно говорю. Я сказал, что серьезно. Он немного подумал и сказал:
— А коли серьезно, так вот вам вещь, давайте деньги.
Я отдал ему рубль, а ружье положил на столе, и не посмотревши даже на него хорошенько, как на вещь совершенно мне не нужную. Мог ли я предвидеть тогда, что это ружье, почти насильно купленное, разыграет такую важную роль, какую я ему теперь назначил?
Вылез я из своей подвижной спальни, пошел к колодцу, умылся, охорошился кое-как и вошел в комнату. На столе уже стоял самовар, и вчерашняя капитанша вытирала чистым полотенцем большую фарфоровую чайную чашку. Я приветствовал ее с добрым утром, на что она мне отвечала тем же.
— А где же ваш хозяин? — спросил я.
— А он рано еще уехал к помещику, у которого мы эту корчму нанимаем.
— А как прозывают этого помещика и далеко ли он от вас живет?
— Отставной ротмистр N. N., а живет он почти что около самого города.
«Да это и есть мой приятель, моя единая надежда», — подумал я и, обратясь к хозяйке, спросил, как она думает, скоро ли ее хозяин возвратится назад.
— Я думаю, скоро, если его не задержит Виктор Александрович: ему там нечего долго делать, — отдать деньги и получить бочку водки. Да вам что его дожидать, вы и со мною можете рассчитаться.
«В том-то и дело, что не могу», — подумал и вслух прибавил:
— Мне бы хотелося еще раз с ним повидаться и побеседовать. Он должен быть добрый старик?
— Прекрасный человек! — с заметным волнением сказала она.
— Жаль, если я его не дождуся. А впрочем, мне торопиться некуда. Не хотите ли со мною чашку чаю выпить?
— Благодарю вас покорно, мы уже чай пили, — проговорила она с едва заметным наклонением головы.
Мне чрезвычайно нравились в этой простой женщине голос ее, ее простая, грациозная манера и самая безукоризненная чистота, начиная с головного платка и до башмака. Пока я придумывал средство, как бы ее задержать в комнате, она сложила и положила на стол, полотенце, а сама скрылася за занавеску.
Напившись чаю, я вышел на двор полюбоваться весенним апрельским утром, но это утро уже кануло в вечность, а место его заступил апрельский теплый прекрасный полдень. Я обошел кругом корчму и остановился у изгороди. За изгородью, как и вчера, копали гряды мои знакомки. Я обратился с вопросом к старшей.
— Что, это дочь ваша? — спросил я ее.
— Дочь! — отвечала она, но как-то несмело.
— А как ее зовут?
— Елена.
— Елена, — спросил я девушку, — умеешь ли ты играть на гармонике?
— Нет, не умею, — отвечала она запинаясь. — А хочешь, я тебя выучу!
— А где же вы гармонику возьмете?
— Это не твое дело. Ты хочешь ли только учиться?
— Хочу, выучите, — сказала она краснея.
Я вынес гармонику, и лекция началась. Ученица оказалась весьма понятливою, чему мать ее заметно радовалась.
Мы так прилежно занялися гармоникою, что не заметили, как приехал хозяин домой и как, подходя к нам, крикнул:
— Отака ловысь! Люды добри до площаныци знаменуються, а воны он що выробляють!
И, пойдя ко мне, взял у меня из рук гармонику, повертел ее в руках и сказал:
— Славна штука! Де вы ии купылы?
— В Орле, — отвечал я.
— И дорога? — спросил он, отдавая мне гармонику.
— Рубль серебра я заплатил.
— Гм… А ну, заграй ты, Олено!
Я подал девушке гармонику, и она взяла на ней несколько аккордов. Старик улыбнулся и, обращаясь ко мне, спросил:
— Чи не продажна у вас оця музыка?
— Продать-то я ее не продам, а когда хочет Елена, так я подарю ей эту музыку, а ты, старина, коли хочешь, купи у меня ружье.
Старик задумался, а я продолжал:
— Ружье славное, настоящее тульское.
— А на черта оно мне, ваше тульское ружье, когда я и стрелять не умею?
Я отозвал его в сторону и объяснил, в чем дело. Он выслушал меня, усмехнулся и весело сказал:
— Олено! музыка наша! Несы в хату!
— Только слышите, — прибавил я, — я гармонику дарю, а не продаю.
— Добре, добре! — весело говорил старик. — Просымо мылости в хату. Идите и вы, хозяйки мои нечепурни! — прибавил он, обращаясь к женщинам.
Женщины оставили свои гряды, и мы все гурьбой отправилися в хату. Впереди важно выступал наш хозяин. Он был одет уже не по-вчерашнему, в солдатскую шинель, а в синем тонкого сукна жупане, перепоясан красным широким поясом и в черной смушевой высокой шапке. В этом наряде он был похож на старинного малороссийского горожанина или на зажиточного казака.
Мимоходом я шепнул Ермолаю, чтобы он закладывал лошадей, а войдя в хату, я спросил хозяина, застал ли он дома Виктора Александровича. Он отвечал мне, как на самый обыкновенный вопрос, что застал дома и что он собирается к какому-то соседу на праздник.
— Сказано, холостой человек, одинокий, — прибавил он, — то ему и праздник не в праздник. Всего наварено, напечено, наготовлено, а не с кем систы пообидать. А вы, добродию, жонати чи ни? — спросил он меня.
Я отвечал, что нет.
— Женитесь, добродию, непременно женитесь, бо скучно будет старитысь одинокому.
Пока мы разговаривали с хозяином, хозяйка накрывала стол, а Елена за занавеской играла на гармонике. Когда уже на стол была поставлена водка и закуска, в это время вошел в комнату Ермолай и сказал, что лошади готовы. Я велел ему принести ружье, а тем временем расспрашивал, как ближе проехать к Виктору Александровичу. Хозяин рассказавши мне со всеми подробностями дорогу, предложил выпить рюмку водки и закусить на дорогу. Я отказался, ссылаясь на великую субботу, а в сущности потому, что было еще рано. Хозяин отказался от моего ружья и предложил деньги за гармонику. Я, разумеется, тоже отказался. После многих упрашиваний выпить и закусить на дорогу и [уверений], что бог простит дорожному человеку и тому подобное, я, однакож, не поддался их доводам, простился с ними, как с старыми знакомыми, и поехал искать хутор Виктора Александровича.
Не доезжая версты две до города Глухова, в правой стороне от большой дороги чернеет небольшая березовая роща, а к этой рощице вьется маленькая дорожка. Эта дорожка привела меня прямо к усадьбе Виктора Александровича.
Усадьба, или хутор, Виктора Александровича скрывался, как за скромной занавесью, за этой рощицей. Приближаясь к роще, мне послышался какой-то неопределенный шум. Шум усиливался по мере моего приближения. Еще немного, и я явственно мог расслышать, что шум этот происходил от каскада падающей воды. И действительно, я не ошибся: между белыми березовыми стволами кое-где просвечивала блестящая вода. Выехавши из рощи, передо мною открылся широкий пруд и плотина, полузакрытая старыми, огромными вербами. По ту сторону пруда, почти у самого берега, выглядывали из-за деревьев белые хатки и отражалися в воде. Между крестьянскими хатками белела под почерневшей соломенной крышей, с гнездом гайстра, или аиста, большая, о четырех окнах, панская хата, или будынок, а перед нею стоит огромный развесистый вяз. За хутором по косогору раскинулся фруктовый сад, окруженный старыми березами. На самом косогоре, на фоне голубого неба рисовалась ветряная мельница о шести крылах, а влево от мельницы, за пологой линией косогора, на самом горизонте в фиолетовом тумане едва заметно рисовался город Глухов.