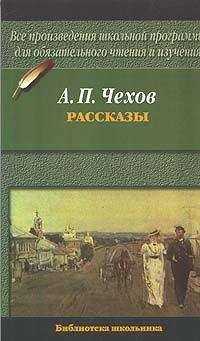Антон Чехов - т. 4
Но вот она кончила один мешок, бросила его в сторону и, сладко потянувшись, остановила свой тусклый, неподвижный взгляд на окне… На стеклах плавали слезы и белели недолговечные снежинки. Снежинка упадет на стекло, взглянет на дьячиху и растает…
— Поди ложись! — проворчал дьячок.
Дьячиха молчала. Но вдруг ресницы ее шевельнулись и в глазах блеснуло внимание. Савелий, всё время наблюдавший из-под одеяла выражение ее лица, высунул голову и спросил:
— Что?
— Ничего… Кажись, кто-то едет… — тихо ответила дьячиха.
Дьячок сбросил с себя руками и ногами одеяло, стал в постели на колени и тупо поглядел на жену. Робкий свет лампочки осветил его волосатое, рябое лицо и скользнул по всклоченной, жесткой голове.
— Слышишь? — спросила жена.
Сквозь однообразный вой метели расслышал он едва уловимый слухом, тонкий, звенящий стон, похожий на зуденье комара, когда он хочет сесть на щеку и сердится, что ему мешают.
— Это почта… — проворчал Савелий, садясь на пятки.
В трех верстах от церкви лежал почтовый тракт. Во время ветра, когда дуло с большой дороги на церковь, обитателям сторожки слышались звонки.
— Господи, приходит же охота ездить в такую погоду! — вздохнула дьячиха.
— Дело казенное. Хочешь — не хочешь, поезжай…
Стон подержался в воздухе и замер.
— Проехала! — сказал Савелий, ложась.
Но не успел он укрыться одеялом, как до его слуха донесся явственный звук колокольчика. Дьячок тревожно взглянул на жену, спрыгнул с постели и, переваливаясь с боку на бок, заходил вдоль печки. Колокольчик прозвучал немного и опять замер, словно оборвался.
— Не слыхать… — пробормотал дьячок, останавливаясь и щуря на жену глаза.
Но в это самое время ветер стукнул по окну и донес тонкий, звенящий стон… Савелий побледнел, крякнул и опять зашлепал по полу босыми ногами.
— Почту кружит! — прохрипел он, злобно косясь на жену. — Слышишь ты? Почту кружит!.. Я… я знаю! Нешто я не… не понимаю! — забормотал он. — Я всё знаю, чтоб ты пропала!
— Что ты знаешь? — тихо спросила дьячиха, не отрывая глаз от окна.
— А то знаю, что всё это твои дела, чертиха! Твои дела, чтоб ты пропала! И метель эта, и почту кружит… всё это ты наделала! Ты!
— Бесишься, глупый… — покойно заметила дьячиха.
— Я за тобой давно уж это замечаю! Как поженился, в первый же день приметил, что в тебе сучья кровь!
— Тьфу! — удивилась Раиса, пожимая плечами и крестясь. — Да ты перекрестись, дурень!
— Ведьма и есть ведьма, — продолжал Савелий глухим, плачущим голосом, торопливо сморкаясь в подол рубахи. — Хоть ты и жена мне, хоть и духовного звания, но я о тебе и на духу так скажу, какая ты есть… Да как же? Заступи, господи, и помилуй! В прошлом годе под пророка Даниила и трех отроков была метель и — что же? мастер греться заехал. Потом на Алексея, божьего человека, реку взломало, и урядника принесло… Всю ночь тут с тобой, проклятый, калякал, а как наутро вышел, да как взглянул я на него, так у него под глазами круги и все щеки втянуло! А? В Спасовку два раза гроза была, и в оба разы охотник ночевать приходил. Я всё видел, чтоб ему пропасть! Всё! О, красней рака стала! Ага!
— Ничего ты не видел…
— Ну да! А этой зимой перед Рождеством на десять мучеников в Крите, когда метель день и ночь стояла… помнишь? — писарь предводителя сбился с дороги и сюда, собака, попал… И на что польстилась! Тьфу, на писаря! Стоило из-за него божью погоду мутить! Чертяка, сморкун, из земли не видно, вся морда в угрях и шея кривая… Добро бы, красивый был, а то — тьфу! — сатана!
Дьячок перевел дух, утер губы и прислушался. Колокольчика не было слышно, но рванул над крышей ветер и в потемках за окном опять зазвякало.
— И теперь тоже! — продолжал Савелий. — Недаром это почту кружит! Наплюй мне в глаза, ежели почта не тебя ищет! О, бес знает свое дело, хороший помощник! Покружит, покружит и сюда доведет. Зна-аю! Ви-ижу! Не скроешь, бесова балаболка, похоть идольская! Как метель началась, я сразу понял твои мысли.
— Вот дурень! — усмехнулась дьячиха. — Что ж, по твоему, по дурацкому уму, я ненастье делаю?
— Гм… Усмехайся! Ты или не ты, а только я замечаю: как в тебе кровь начинает играть, так и непогода, а как только непогода, так и несет сюда какого ни на есть безумца. Каждый раз так приходится! Стало быть, ты!
Дьячок для большей убедительности приложил палец ко лбу, закрыл левый глаз и проговорил певучим голосом:
— О, безумие! О, иудино окаянство! Коли ты в самом деле человек есть, а не ведьма, то подумала бы в голове своей: а что, если то были не мастер, не охотник, не писарь, а бес в их образе! А? Ты бы подумала!
— Да и глупый же ты, Савелий! — вздохнула дьячиха, с жалостью глядя на мужа. — Когда папенька живы были и тут жили, то много разного народа ходило к ним от трясучки лечиться: и из деревни, и из выселков, и из армянских хуторов. Почитай, каждый день ходили, и никто их бесами не обзывал. А к нам ежели кто раз в год в ненастье заедет погреться, так уж тебе, глупому, и диво, сейчас у тебя и мысли разные.
Логика жены тронула Савелия. Он расставил босые ноги, нагнул голову и задумался. Он не был еще крепко убежден в своих догадках, а искренний, равнодушный тон дьячихи совсем сбил его с толку, но, тем не менее, подумав немного, он мотнул головой и сказал:
— Не то чтобы старики или косолапые какие, а всё молодые ночевать просятся… Почему такое? И пущай бы только грелись, а то ведь чёрта тешат. Нет, баба, хитрей вашего бабьего рода на этом свете и твари нет! Настоящего ума в вас — ни боже мой, меньше, чем у скворца, зато хитрости бесовской — у-у-у! — спаси, царица небесная! Вон, звонит почта! Метель еще только начиналась, а уж я все твои мысли знал! Наведьмачила, паучиха!
— Да что ты пристал ко мне, окаянный? — вышла из терпения дьячиха. — Что ты пристал ко мне, смола?
— А то пристал, что ежели нынче ночью, не дай бог, случится что… ты слушай!.. ежели случится что, то завтра же чуть свет пойду в Дядьково к отцу Никодиму и всё объясню. Так и так, скажу, отец Никодим, извините великодушно, но она ведьма. Почему? Гм… желаете знать почему? Извольте… Так и так. И горе тебе, баба! Не токмо на страшном судилище, но и в земной жизни наказана будешь! Недаром насчет вашего брата в требнике молитвы написаны!
Вдруг в окне раздался стук, такой громкий и необычайный, что Савелий побледнел и присел от испуга. Дьячиха вскочила и тоже побледнела.
— Ради бога, пустите погреться! — послышался дрожащий густой бас. — Кто тут есть? Сделайте милость! С дороги сбились!
— А кто вы? — спросила дьячиха, боясь взглянуть на окно.
— Почта! — ответил другой голос.
— Недаром дьяволила! — махнул рукой Савелий. — Так и есть! Моя правда… Ну, гляди же ты мне!
Дьячок подпрыгнул два раза перед постелью, повалился на перину и, сердито сопя, повернулся лицом к стене. Скоро в его спину пахнуло холодом. Дверь скрипнула, и на пороге показалась высокая человеческая фигура, с головы до ног облепленная снегом. За нею мелькнула другая, такая же белая…
— И тюки вносить? — спросила вторая хриплым басом.
— Не там же их оставлять!
Сказавши это, первый начал развязывать себе башлык и, не дожидаясь, когда он развяжется, сорвал его с головы вместе с фуражкой и со злобой швырнул к печке. Затем, стащив с себя пальто, он бросил его туда же и, не здороваясь, зашагал по сторожке.
Это был молодой белокурый почтальон в истасканном форменном сюртучишке и в рыжих грязных сапогах. Согревши себя ходьбой, он сел за стол, протянул грязные ноги к мешкам и подпер кулаком голову. Его бледное, с красными пятнами лицо носило еще следы только что пережитых боли и страха. Искривленное злобой, со свежими следами недавних физических и нравственных страданий, с тающим снегом на бровях, усах и круглой бородке, оно было красиво.
— Собачья жизнь! — проворчал почтальон, водя глазами по стенам и словно не веря, что он в тепле. — Чуть не пропали! Коли б не ваш огонь, так не знаю, что бы и было… И чума его знает, когда всё это кончится! Конца краю нет этой собачьей жизни! Куда мы заехали? — спросил он, понизив голос и вскидывая глазами на дьячиху.
— На Гуляевский бугор, в имение генерала Калиновского, — ответила дьячиха, встрепенувшись и краснея.
— Слышь, Степан? — повернулся почтальон к ямщику, застрявшему в дверях с большим кожаным тюком на спине. — Мы на Гуляевский бугор попали!
— Да… далече!
Произнеся это слово в форме хриплого, прерывистого вздоха, ямщик вышел и, немного погодя, внес другой тюк, поменьше, затем еще раз вышел и на этот раз внес почтальонную саблю на широком ремне, похожую фасоном на тот длинный плоский меч, с каким рисуется на лубочных картинках Юдифь у ложа Олоферна. Сложив тюки вдоль стены, он вышел в сени, сел там и закурил трубку.
— Может, с дороги чаю покушаете? — спросила дьячиха.
— Куда тут чаи распивать! — нахмурился почтальон. — Надо вот скорее греться да ехать, а то к почтовому поезду опоздаем. Минут десять посидим и поедем. Только вы, сделайте милость, дорогу нам покажите…