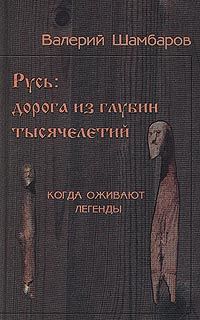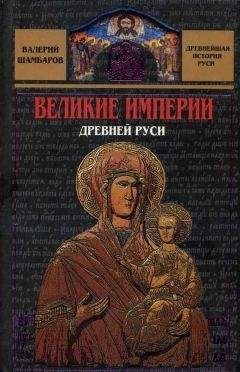Подлинные мемуары поручика Ржевского - Шамбаров Валерий Евгеньевич
Хан: Так ты что — аскет или… в этом роде?
Лекарь: На пути служения людям приходится во многом себя ограничивать. Ремеслу лекаря надо отдавать себя целиком, не размениваясь на мелочи.
Хан: Наверное, это трудно?
Лекарь: Сначала — да. А потом обретенное знание помогает не замечать второстепенного. Скажем, если человек для придворной карьеры решил стать евнухом, ему тоже сначала трудно. Но потом он переходит в другое качество с другой системой ценностей.
Хан: Как ради должностей и власти становятся евнухами, понятно. Но какова твоя цель?
Лекарь: Я же говорил — служение людям.
Хан: Это средство.
Лекарь: Служение людям — это одновременно и цель.
Хан: Как у евнуха? Он ведь тоже видит средство в служении определенным людям, а цель — в служении на более высоком посту, с большей властью и большими возможностями обогащения?
Лекарь: Есть и разница. Ведь я еще и несу людям добро.
Хан: Да откуда ты знаешь, что такое добро, раз в степи ты отбрасываешь ветер и запах, а в женском теле замечаешь лишь гнойные выделения?
Лекарь: Такова уж моя жизненная дорога. Хотя конечно, она не единственная.
Хан: Почему же тогда ты считаешь, что добро — одно?
Лекарь: Так уж устроен мир. В нем много сложных вопросов.
Хан: Много. Например — почему я тебя не убил?
Лекарь: Наверное, потому что я лекарь. И имею репутацию хорошего лекаря
Хан: Неправильно. Разве я убил мало хороших лекарей? В том же Вавилоне, в Индии…
Лекарь: Тогда мне просто повезло. Когда лекарь был тебе не нужен, наши дороги не пересекались. А когда тебе понадобилось мое искусство, я оказался поблизости.
Хан: Может, и повезло. Посмотрим. Но сейчас твоего искусства мне не надо. Иди и забери свои лекарства.
Лекарь: Если ты опасаешься, что они отравлены, я могу отпить.
Хан: Не надо. Вдруг мне опять захочется пообщаться с ученым человеком? А лекарства вдруг действительно отравлены? (Лекарь уходит. Тут же появляется Наложница.)
Наложница: Я уж заждалась, да и лепешки остывают. Ты чем-то взволнован?
Хан: Просто удивлен. Всегда считал своего лекаря трусом, который скорее сам себя оскопит, чем решится на что-то рискованное. А он не побоялся прийти сюда.
Наложница: Ты забыл, что одному человеку находиться возле тебя безопасно. Кто ж его казнит? Лекарь сидел в саду за кустами и ждал, когда я от тебя выйду.
Хан: А ты что же?
Наложница: Потом я сидела за кустами и ждала, пока он выйдет.
Хан: Погаси второй светильник, и так душно. Значит, единственный смелый человек при дворе — девчонка-танцовщица?
Наложница: Ее здесь и вырастили, и воспитали, поэтому она просто не имеет понятия, что жизнь нужно беречь. Нет, искать смельчаков вокруг тебя бесполезно.
Хан: А как же воины, которые когда-то без страха кидались вперед?
Наложница: Да, вперед. Но ведь сзади был ты. (Осторожно заглядывает Обмывальщица Трупов).
Хан: Бесполезно искать? А это кто? Ну-ка покажись!
Обмывальщица: Я заглянула узнать, не могу ли чем-нибудь услужить.
Хан: Твое лицо кажется мне знакомым. Ты давно при моем дворе?
Обмывальщица: Достаточно давно.
Хан: Странно. Почему же я тебя не помню? Может, ты убийца?
Обмывальщица: Нет, повелитель.
Хан: Не убийца, а лицо все равно знакомое. Вызываешься услужить — а я даже не помню, умелая ли ты прислужница…
Обмывальщица: На мою работу еще никто никогда не жаловался.
Хан: Не жаловался? Ты так хорошо умеешь обслуживать высокопоставленных особ?
Обмывальщица: Я обслуживала и царей. И твоих приближенных, жен… Просто обычно я не люблю привлекать к себе внимание…
Хан: Постой-постой! Кажется, узнал! Когда мы встречались в последний раз?
Обмывальщица: Не так давно. Когда казнили палача Фархада.
Хан: Точно! Ты — обмывальщица трупов!
Обмывальщица: Да, я обмываю тела, обряжаю, готовлю к погребению и оплакиваю.
Хан: То-то я сразу приметил, что лицо знакомое!
Обмывальщица: Мы ведь часто встречались.
Хан: Как интересно! Значит все, кого я отправлял на тот свет, проходили через твои руки?
Обмывальщица: Нет, только те, кого ты разрешал хоронить. Но все равно, работы хватало. ‛
Наложница: Ну и работа!
Обмывальщица: Мне она нравится. Все время новые люди, новые лица. И заработок сносный.
Хан: Вот так встреча! В конце жизни наткнуться на того, кто помнит столько соратников и близких, врагов и друзей. Да ты садись рядом, обмывальщица трупов. Бери лепешку, не стесняйся! У нас же столько общих знакомых!
Обмывальщица: Память у меня хорошая. Когда вспоминаешь и сравниваешь, возникает интерес к своему делу.
Наложница: От таких воспоминаний наизнанку воротит.
Хан: Не слушай эту девку. Она молода и глупа. Представляешь, она слушает россказни всяких старых славянок и боится покойников! А сама, небось, даже и не знает, зачем обмывают трупы.
Наложница: Велика мудрость! Чтобы смыть пыль и пот, прежде чем одеть в чистое.
Хан: Нет, ты слышала — пыль и пот! Я ж говорил, она ничего не знает, кроме базаров, где ее продавали! Объясни ей!
Обмывальщица: Это же так просто. В момент смерти все перестает работать — и кишечник, и мочевой пузырь. Они сжимаются в судорогах, а потом все отверстия расслабляются…
Хан: Человек в момент смерти обделывается, понятно? Ты даже этого не знаешь, поэтому и не лезь в разговоры старших. Да ты угощайся, обмывальщица трупов, не жалей живота, пока он варит. Помнишь, так любил говаривать Юсуф?
Обмывальщица: Который?
Хан: Визирь, он всегда сидел у меня по правую руку.
Обмывальщица: Помню, совсем старенький был. Приходилось обращаться аккуратно, как с ребеночком. Все складочки ему протерла, все морщиночки. Очень я его жалела.
Хан: Я потом тоже. И Чичак жалел. Помнишь Чичак?
Обмывальщица: Разве забудешь такое роскошное тело?
Хан: Ты права, невозможно забыть. Может помнишь, у нее родинка была на левой груди возле соска?
Обмывальщица: Помню. Очень трогательная. И три рядом, треугольничком на пояснице. А работы было совсем немного, Фархад ее очень бережно заколол, почти без крови.
Хан: Да, Фархад тогда постарался, чтобы красоту такую не испортить. Что ни говори, а свое дело он знал. Уж казалось бы, чего проще — на кол посадить, а и то умел, чтобы и помучился человек подальше, и чтобы смотрелось.
Обмывальщица: Да, я и это помню — одну ты даже мертвую поцеловал. Но и она того стоила — стройная, гибкая, прямо как дикая кошка. Фархад аж стонал, когда трудился над ней.
Хан: Я ее губы как сейчас вижу. Красные, сочные, будто живые. А на самом деле холодные и вкус соленый.
Обмывальщица: Я тогда хотела предупредить, что это кровь выступила и запеклась, но не решилась. А уж потом смывать не осмелилась, так и похоронили. Но какие похороны были!
Хан: Я похоронил ее, как любимую жену. Хотя она мне и изменила.
Обмывальщица: Я вообще люблю тех, кого сняли с кола — тело и целое, и прямое, и не обделанное — кол ничего наружу не выпускает. Не то что расчлененные — все в кровище, все по отдельности, скрюченное. Хотя и тут бывали приличные трупы. У одной, помню, уж такая шея, что даже жаль, что перерублено…
Хан: А, Зубейда! Но она сама виновата, не следовало меня доводить до такого. А с умершими от пыток трудно тебе было?
Обмывальщица: Иногда неприятно, но в общем терпимо. А когда Фархад брал с них взятки, трупы были совсем сносными.
Хан: Полководцев моих тоже помнишь? Фаруха, Марбека?
Обмывальщица: О, может ли хоть одна женщина, увидевшая тело Фаруха, забыть его? Я прямо млела над ним, сердце замирало. Какой рост, какие мускулы, какие мужские части! Обмываю, а сама представляю, что ласкаю… А Марбек-то оказался евнухом! Я и не догадывалась!
Хан: Ты и не могла этого знать, евнухом он стал незадолго до смерти.
Обмывальщица: Я и чужеземцев помню. Прямо сгорала от любопытства, когда ты велел удавить черного эфиопского принца.